Трагедия как эстетическое-этическое-политическое. Философская апология театра
(Жак Рансьер. На краю политического)
«Театр — это занятие, которое может располагаться вне медиа и территорий — где придется, где человека настигают силы к игре, которые позволяют ему включать в эту игру потенциальность любого знака (слова, движения, звука, образа, жеста), занятие, которое обретает возможность быть не просто репрезентативным выставлением, изображением, а обращенностью к. Поэтому артистическое исполнение не обязательно разворачивается на сцене или в зрительном зале. Оно может быть везде. Ибо театр — это артистическая машина, которую потенциально производит каждый в зависимости от того, как он сталкивается с миром и людьми. В таком случае реальность может быть не просто увиденной, она может быть переигранной», — так заканчивает Кети Чухров (философ, поэт, перформер) свою книгу «Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства».


фото: Ольга Комисар
Эта книга — разговор об искусстве как о «невещественной практике», ничего не производящем эфемерном событии, которое не может быть зафиксировано. Понятие «театр» избрано в качестве оператора или инструмента анализа, с помощью которого осуществляется попытка «определить те потенциальности, которые позволяют говорить об искусстве, преодолевая цеховые ожидания, жанры, стили и каноны».
«Театр» рассматривается как «потенциальность, носителем которой является само искусство». Конфликт между экзистенцией и игрой (исполненным, исполняемым бытием; удвоенным или превышенным бытием) — как «один из важнейших парадоксов, посредством которого философия, искусство и политика говорят об одном и том же».
Театр — это не столько способ познавать мир, сколько желание с ним встретиться, приобщение к познаваемому, соучастие в нем, ситуация, когда ваша плоть идет в дело, или даже — когда primo il corpo, в начале было тело. Как говорил российский философ Валерий Подорога художникам на встречах «Мастерской визуальной антропологии», «всякое творчество является аффектом восприятия. Восприятие же, несмотря на все его результаты, регрессирует к телу как к начальной близости с миром».
В познании мира, и в искусстве как способе такого познания, есть тайная (бывает, что и явная) воля к власти. Мы выкраиваем себе мир по потребности. «Мы спроецировали условия нашего сохранения как предикаты сущего вообще», как писал Фридрих Ницше. Мы познаем для того, чтобы утвердиться. Утвердившись, соревнуемся, кто из нас утвердился крепче и кто из нас получит, наконец, власть над миром. Как будто мир должен быть таким, чтобы «я» (субъект) мог владеть им в своем сознании. Как будто хоть что-нибудь может обеспечить так сильно желаемое владение миром. Лишь у идеологий, они уверены, есть, пусть утопическая, но таблетка счастья — она, даже горькая и требующая усилий-страданий для проглатывания, может быть, как им кажется, изобретена. И все в конце концов наладится.
И Галя, продавщица с рынка «Афган» в московских Кузьминках, освободится от гнета кавказского предпринимателя по имени Гамлет с того же рынка, станет ему равной или, что еще лучше, начнет распоряжаться им. И Гамлет поймет, что женское существо способно на свободу, и перестанет требовать от этого существа секса в обмен на разрешение торговать мехами, признает право этого существа на власть над мужским существом. А если не признает, гад, то будет убит.


фото: Ольга Комисар
Галя и Гамлет — персонажи оратории «“Афган”-Кузьминки (сцена попытки приступить к сексу)» Кети Чухров. В пьесе Кети Чухров события разворачиваются совсем не так, как хотелось бы тем, кто борется за эмансипацию женщины, искренне жаждет справедливости, исполнен наилучших намерений и хотел бы изменить мир к лучшему. Но и не так, как хотелось бы потребителям зрелищ, будь то образы современного медиамира или образцы классического искусства. В драматической поэме Чухров для всех все плохо — как в греческой трагедии, но еще и подвергшейся насилию редукции. Потому что в оратории Кети все невыносимо просто, примерно так же, как в речи Путина с экране телевизора, который «вдруг включает» Галя:
«Дорогие сограждане, мешают нам враги
понять великую сердечную простоту,
Мешают нам любить и верить.
Не понимают нашей радости,
счастья и благодати,
Нашей победы, с которой мы умеем умирать на любой
Помойке родины.
Дорогие сограждане,
Хоть и в кредит но мы уже в раю,
Вот почему сияем, сияет Москва,
Летит в автомобилях вперед наш народ».
Или как в диалоге Гали и Гамлета:
«Галя: Опять трусы надевать.
Может мне уже домой пойти?
В следующий раз например тебе дать?
Гамлет: Че плачешь, все равно же блядь.
А плачешь как будто ребенок опять».
Но, как и в классической трагедии в определенный момент сцену заливает — пусть и не божественным, а простым человеческим, — светом:
«Галя: Тяжело, а до смерти далеко.
Умножим это на два и станет легко.
Гамлет: Сколько идет этих лучей в окно,
Может место и время уже прошло?
Помаду твою дешевую как разнесло,
Сотрем ее туалетной бумагой и увидим лицо».


фото: Максим Белоусов, ART Ukraine
Имя «Гамлет» — не случайное совпадение, хоть так действительно называют на Кавказе человеческих детенышей мужского пола. «Гамлет» для Кети — «постоянный спутник всего», и теоретических работ, и вышеупомянутой книги, и драматургии, потому что «Гамлет — это средоточие театра. Шекспир сделал этого героя такой пустотой, такой чудовищной травмой, что герой должен сдохнуть, должен умереть, а вдруг он не умирает, и начинает театр. Он не умирает и начинает играть. Из этого выживания не умершего человека, который должен был умереть, начинается новая поэзия и новый театр. И вот это есть прыжок, это есть эмансипация, для меня, я так ее понимаю…»
2
а мы все ставим каверзный ответ
и не находим нужного вопроса
(Владимир Высоцкий)
«Гамлет, чисто содержательно, — это такой герой, который разуверился в жизни, стал нигилистом. Этот нигилизм для меня есть олицетворением пост-гегелевской европейской философии кризиса гуманизма. Мачистская, сексистская философия, построенная на маскулинной культуре… Мир мертв, человек мертв, Бог мертв. И что ты теперь хочешь?.. А женщина выступает с таким желанием — нет, надо, чтобы присутствие проросло, чтобы бытие проросло, надо, чтобы эта игра началась, надо, чтобы мерцание началось… Вот этот момент женского, которое говорит — нет, нет, пожалуйста, пока не надо, пожалуйста, нет! — это и есть интонация Гали», — Кети относится к своим героям не заботливо, она их любит. Она встает не на их защиту, даже не на их место, но вместо них. Она не пытается сделать их лучше или сложнее, но играет их слабость. Она осуществляет эмансипаторный переход от экзистенции к игре, переход к искусству, к «гамлетовскому» исходу из различных детерминаций — социальных, инфраструктурных, бытовых, психических. Этот сдвиг в сущности политичен, так как позволяет «совершить политическое пресуществление изнутри, имманентно телам и формам, без идеологической декларации».
Театр предполагает выбор игры как реакции на событие и знание человека о том, что он будет играть. В зазоре игры только и может открыться, что искусство «является испытанием человека в том состоянии, в котором ему могут грозить смерть, энтропия, выпадение из жизни», испытанием самого «статуса человеческого».
Летом этого года Кети Чухров привозила свою ораторию в Киев по приглашению Центра визуальной культуры и польского куратора Специального проекта Арсенале 2012 в рамках образовательной программы «Свобода выражения, выражение свободы». Перформанс Кети и последующая дискуссия стали, может быть, наиболее значимым событием всей I-ой Киевской биеннале. Вдруг сдвинулась «тектоническая» плита, заботливо уложенная организаторами и кураторами консервативной Арсенале, неожиданно случилась реальная дискуссия, которая не допускалась на специально для этого придуманной Дискуссионной платформе, внезапно открылась пропасть между желанием Справедливости и поэтикой Трагедии, не без старания замуровываемая идеологиями.


фото: Максим Белоусов, ART Ukraine
Прагматичная современность требует животрепещущих ответов, ей вечные вопросы не по душе. И какие, в самом деле, могут быть вопросы, если ясно видно, что современные женщины и другие «миноритарности» (термин, используемый Чухров, близок к понятиям «меньшинства» и «миноритарные группы». — Aroundart) так же, как и раньше, обделены в правах? О какой поэтике может идти речь, если первейшим делом каждого «искушенного» деятеля искусства должна стать борьба за права угнетенных? На что Кети отвечает: «Права в поэзии не выясняются». Для выяснения и отстаивания прав нужна совсем другая работа.
Здесь, и в теоретической работе, и в драматургии, и в перформансе, Кети Чухров выражает свою философию через себя. Это ее «личное дело».
Гегель, когда его назначили министром просвещения, сказал: «Я выражаю себя через свою философию где угодно, за какие угодно деньги и перед кем угодно, потому что это — мое личное дело».
Почему-то стало принято считать, что отсутствие личного, стремительное скольжение по гламурной поверхности цинизма и бравурно-оптимистически-ироническое отстаивание безысходности и безрадостности бытия — «мнение» — прочно заняло место такого «личного дела». «Мечта о Гегеле» — так можно назвать желание не слушать мнения, но видеть, что, если кто-то что-то говорит или делает, это его «личное дело».
Во время дискуссии, состоявшейся после перформанса Кети в Малой галерее Арсенала, вспомнили об «Антихристе» Ларса фон Триера. Кино, которое, как сказала Кети во время обсуждения, «показывает насколько “безумие” травмированного европейского субъекта не трагично, насколько оно корыстно в своем нарциссичном наслаждении. За порогом риторически оформленного договора между двумя индивидами — мужчиной и женщиной, условно любящими друг друга — нет ни общества (поскольку и оно является всего лишь правовым договором), ни культуры, ни обращенности к Другому. Остается лишь оппозиция между дисциплинарным языком власти и терапии, исходящей от “мужчины”, и больное, перверсивное тело “женщины”, которое подчинено языку, но одновременно пытается отомстить моралистической индоктринации карнавалом насилия». Там, где идет речь о власти, терапии, морали и насилии (что, в итоге, оказывается одним и тем же), нет места «личному делу».
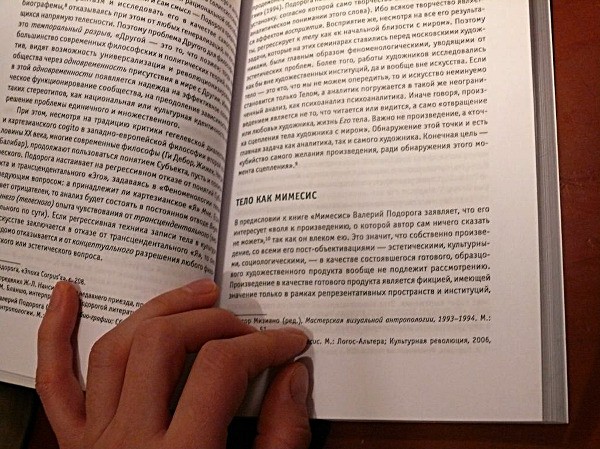
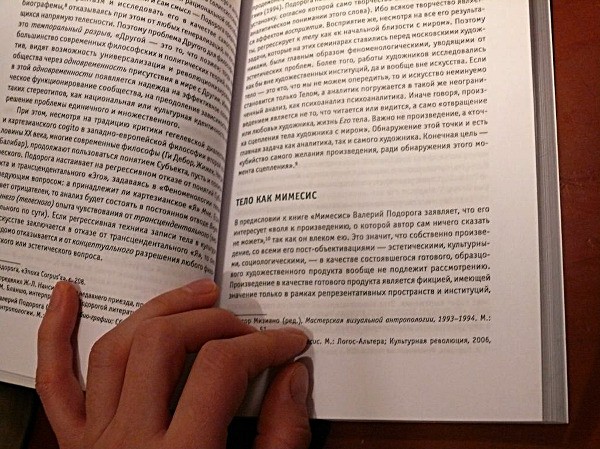
фото: Ольга Комисар
3
Вопрос, прозвучавший на дискуссии: «Кети, скажи — эта пьеса феминистская?» Ее ответ: «Там нет протестной сформированной эмансипаторной позиции женщины. Она хочет от мужчины какой-то гармонии, общности, она хочет, чтобы мир состоялся, она хочет цельной картины, чтобы мир не был скомкан функциями. Это о тоске. Она хочет реализации тоски. Феминистка может сказать, что феминизм ни в коем случае не работает с такой квазитеоретической или романтической категорией, как тоска. Феминизм работает более прагматично, выявляет какое-то противоречие на социальном уровне или показывает какое-то движение — определенные женщины требуют того-то и того-то». В пьесе Кети Чухров присутствует другое требование — «требование анти-власти», реализуемое посредством критики самой властной позиции.
Еще на один вопрос — «Не слишком ли идеален финал пьесы?» — Кети ответила так: «Идея, идеальное — это поэтическое зависание. Идеализм как необходимость идеи, которая ведет, которая не схлопывает тебя к твоему физиологическому и эмпирическому существованию. С одной стороны, схлопнутость к эмпирическому, к эмпирии обмена, невозможности общности. С другой стороны, горизонт общности, горизонт мира, горизонт возможности любви. Этот горизонт не существует сейчас, имманентно, но все-таки существует. Как говорил российский философ Эвальд Ильенков, идеал — не какая-то греза или фантазия, идеал — это тот хлеб, который пекарь должен испечь. Это то, что я хочу сделать и должна сделать, у меня долг сделать это. То, что я свободна сделать, но пока не сделала, у меня куча помех для того, чтобы сделать это, но я должна это сделать. Вот, собственно, это и есть тот горизонт, или проект. Для меня идея или идеальность — это наличие проектности».
4
Ты любишь и не знаешь что любить, но ты знаешь, что для твоей любви здесь и сейчас есть что любить.
(Владимир Бибихин. Энергия)
В ходе дискуссии Кети утверждает и вопрошает: «Это не проблема отношений между мужчиной и женщиной, это не про тетю и дядю, тетя хочет любить, а дядя хочет продавать и получать секс бесплатно… Нет, это о том, зачем тебе нужна власть, зачем тебе нужна жестокость? Почему мир такой, какой он есть? Почему ты такой, какой ты есть?..» Как возможно выйти на ситуацию «субъект и субъект»? Когда есть равный и равный? «Хорошо, если политическое формируется не только через организацию, структуру, инфраструктуру, через какие-то сетевые контексты, но и через некий мета-эрос», через любовь как дискурс.


фото: Максим Белоусов, ART Ukraine
Почему в наше время стало почти непристойным говорить о любви? Версия Кети: «Потому что любовь сегодня существует в зоне вульгарности, в виде пошлой истории, голливудского фильма, популярной песни, некоего фантазма, иллюзии. Она спектакулярна. Ее не существует в виде политического горизонта». Любовь для Кети — это не только влечение, не только привязанность к другому человеку, не только зависимость от чувств. Любовь — это общность человека и человека, а не отношения между субъектом и объектом. Это «запрос на то, чтобы мир был другим и поэтому она (Галя) забирает у Гамлета то хорошее, что у него могло бы быть, если бы он не выбрал сексистскую, нигилистическую позицию».
Греки знали четыре разновидности любви: «эрос» — стихийная, восторженная влюбленность, почитание, направленное на объект любви; «филиа» — любовь-дружба, обусловленная социальными связями и личным выбором; «сторгэ» — любовь-нежность, особенно семейная; «агапэ» — жертвенная любовь, безусловная любовь. У Кети речь идет о сочувствии (в высоком смысле этого слова), речь идет о любви как агапэ. Не в актуальности, но в потенциальности вопросов, порождаемым непреклонностью трагедии.
Персонаж по имени Галя оказывается в трагической точке этического выбора: давайте я не буду товаром, возьмите меня и уничтожьте. Радикальный жест. Если тебя потребляют как товар, а ты не хочешь быть товаром, то становишься абсолютной жертвой. Если ты обмениваешься, то сохраняешь себя. Абсолютная жертва, которая приобретает силу, потому что готова умереть.
«Галя: А я бы если пошла на панель,
только бесплатно.
Интересно, если бы девчонка полюбила всех
Так же сильно как Христос,
Она бы бесплатной проституткой что ли стала,
Она бы совсем что ли не разбирала,
Кто ее вразнос, а кто взасос.
Сильно бы плакала, страдала,
Но всем разрешала».


фото: Ольга Комисар
Пьеса Кети и ее исполнение (музыка, голос, присутствие) предлагают выскочить через парадокс, болтовню блаженного, поэзию, похожую на стихи Хармса, совершить рывок, преодолевая парадокс — к смыслу.
Перформанс Чухров — не как текст, но как присутствие во времени исполнителя, вынуждающего зрителя иметь дело с этим конкретным голосом, высотой звука, телом, взглядом — возвращает нас к трагедии Шекспира.
«…суть трагедии в том, что на стыке времени и экзистенции индивид понимает, что трагедия уже произошла до всякого разворачивания трагической истории… Трагедия в “Гамлете” начинается не тогда, когда Гамлет узнает об убийстве отца, а тогда, когда Гамлет понимает, что случившаяся с ним история предательства — все лишь казус, частность. Эта “частность” оказалась поводом для того, чтобы увидеть всю свою жизнь, ее “содержание” как чей-то чужой бессмысленный вымысел. …это открытие человеком зоны понимания, где он видит фиктивность содержания своего существования… все содержания фиктивны по сравнению с этим знанием о фиктивности и неистинности всех содержаний» («Быть и исполнять»). Это понимание приводит Гамлета к знаменитому вопросу «быть или не быть?», который не означает, однако, выбора между «жить или умереть», а напротив, означает выбор между «играть или жить».
Играть до полной захваченности вопросом, до невозможности оторваться от него, до понимания того, что сам вопрос и есть суть, до такого, от этого открытия, удивления, которому нет меры.


фото: Максим Белоусов, ART Ukraine
Материал подготовила Лариса Венедиктова
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.


























