Хаим Сокол: «Утопия скрыта в повседневности»
В ЦТИ «Фабрика» проходит выставка Хаима Сокола «Спартак. Times New Roman». Елена Ищенко поговорила с художников о продолжении цикла и несостоятельности прямых политических жестов на территории искусства.
Хаим Сокол, «Спартак. Times New Roman», ЦТИ «Фабрика», до 24 ноября


В ЦТИ «Фабрика» проходит выставка Хаима Сокола «Спартак. Times New Roman», очередная веха «мигрантского цикла»: фильм, впервые показанный в питерской галерее Anna Nova, и тотальная эпическая инсталляция из артефактов мигрантского быта, дополненная цитатами из Люксембург, Либкнехта и Эйзенштейна и книгами Ленина. В рамках выставки Сокол предстает как художник не только социальный, но ироничный и упорный, последовательно обнажающий парадоксальность и несостоятельность собственных художественных методов. Елена Ищенко поговорила с художником о продолжении цикла, о работе с мигрантами и несостоятельности прямых политических жестов на территории искусства.
Елена Ищенко: Выставка на «Фабрике» получилась масштабной и даже эпичной – начиная с фильма и заканчивая всей инсталляцией, где уже не просто предметы быта мигрантов, но целая история борьбы. Откуда такая тональность?
Хаим Сокол: Мне хотелось выйти в пространство утопии, привнести или, точнее, вернуть утопическое измерение в левый дискурс. А утопическое пространство гигантское по определению: русский авангард, например, бредил космосом, необъятным. Кроме того, мне хотелось показать историю, если угодно, с высоты полета Ангела истории. Арка Тита, например, не имеет отношения к восстанию Спартака. Эти события происходили в Древнем Риме, но они удалены во времени. Также как Парижская коммуна не связана напрямую с 17-м годом. Но все это – история сопротивления, поэтому я сознательно объединяю эти события вместе.
Наконец, мне хотелось внести элемент актуальности истории. Например, мы в этом году отмечаем столетие Первой мировой. По вполне понятным причинам та война предстает в СМИ исклюительно как история боевой славы и доблести русской армии. А Роза Люксембург и Карл Либкнехт выступили с принципиальных протестом против войны. Либкнехта, бывшего членом парламента от партии социал-демократов, лишили депутатской неприкосновенности и отправили на войну в 44 года – за то, что он нарушив партийную дисциплину, проголосовал против поддержки тяжелой промышленности, против войны. Многие не заметили, но на доске объявлений висит Декрет о мире, написанный Лениным, который в жесточайшей полемике отстоял идею Брестского мира. Это важные детали, которые связывают нас с историей и в то же время возвращают нас в настоящее. Мне кажется, Декрет о мире и сегодня не потерял своей акутальности. Кстати роза Люксембург и Карл Либкнехт связаны со Спартаком. В 1918 году они откололись от социал-демократической партии Германии и организовали «Союз Спартака». Так, ноябрьское восстание 1918 года в Германии вошло историю в том числе под названием «Восстание спартаковцев».
Есть и совсем актуальная история России — среди портретов есть узники 6 мая, а вместе с ними Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов. Все они они стоят в едином ряду истории.
ЕИ: А почему вы решили сделать фильмы немым?
ХС: Во-первых, это эпос, утопия. Во-вторых, и мне важно это подчеркнуть, процесс создания работы не являлся для меня средством политизации участников этого фильма, конкретных 30 человек. Политизация начинается в тот момент, когда работа создана и ее увидел зритель. Это политизация зрителя. Фильм немой не потому, что я не даю голос рабочим. Во-вторых, это вынужденная мера: рабочие плохо говорят по-русски, заставить их повторить текст очень сложно, а выучить – невозможно. Кроме того, я вдохновлялся фильмами Эйзенштейна.
ЕИ: Поэтому в зале есть коляска?
ХС: Да, но эта коляска с корытом вместо люльки взята из арсенала московских дворников. В фильме есть и прямые заимствования из «Броненосца Потемкина», есть и скрытые приветы Эйзенштейну. Так, в моем фильме рабочие красят тряпку, а в «Броненосце» – раскрашенный от руки флаг.
ЕИ: Хаим, как вы взаимодействовали с рабочими? Как добивались от них действия? Видно, что они не всегда охотно играют, да и слово «Свобода» кричат без большого энтузиазма.
ХС: Здесь нужно прояснить несколько моментов. Были определенные условия найма: может быть, это и не самая трудная для них, но работа, и они шли зарабатывать деньги. Они, кстати, ожидали увидеть «Мосфильм», декорации и большую съемочную площадку, а пришли на завод, и оказалось, что им нужно носить ту же одежду. (Кстати, спасибо огромное «Фабрике» за возможность снимать у них). Я считал своим долгом соблюдать этику рабочих отношений: приложил все усилия, даже в ущерб фильму, чтобы мы уложились в 8 часов общего времени, включая перерыв. Для меня было важно делать фильм политически в этом смысле, хотя все это и осталось за кадром, не став частью выставки. В свою очередь, я ждал от них поддержки и внимания – между нами был заключен такой устный договор.
Перед съемками я произнес такую вдохновляющую речь про Спартака. В общих словах рассказал о ситуации древнего мира, где рабство было нормой, и вдруг появился человек, который с этим не согласен. Это сильное обобщение реальных исторических событий, но это то, что меня вдохновляет – несогласие с тотальностью. Сейчас мы постоянно слышим, что коммунистический проект провалился, значит, – такой странный вывод, – капитализм – это норма. Социализм – противоестественно, капитализм – естественно. Рабочим эта история про тотальность очень понравилась. На самом деле, они хорошо воспринимают такие вещи. А дальше началась трудная работа, особенно для меня, потому что я выступал одновременно режиссером, художником, актером и нянькой. И все это под дождем.
Здесь необходимо прояснить еще один момент. Меньше восьми часов работы, отсутствие опыта у них и у меня, дождь… Поэтому я не замахивался на красивое, гладкое, выверенное кино. Это честная камера, мы снимали все как есть: если рабочий ржёт, если бычится, сопротивляется, значит, так и было. Это отчасти документальное кино: оно обнажает внутреннюю «кухню» фильма и амбивалентность ситуации. Мои знакомые говорят мне: «Хаим, почему они ржут в камеру? Почему они грустные? Им там не нравилось?». Но мне и хотелось это показать. По фильму хорошо видно, что какие-то сцены нравились им больше, какие-то меньше. Видно, что восстание они играют с энтузиазмом, а в какие-то моменты пассивно сопротивляются происходящему.
Политичность фильма не только в пафосе содержания, но в том, что мы видим. А видим мы несоответствие пафоса художника и участников.
ЕИ: Рабочие в фильме пишут слово «свобода» на русском и киргизском языках. Это ваша идея? Или их наитие?
ХС: Я давал общие указания, не конкретные. Они кричали слово «свобода», оно было направляющим, потому они и стали писать его на арке. Но после «свободы» пошла настоящая импровизация, они стали писать «Гитлер капут», «Немцы сосут». Пробудилось общесоветское сознание, ощущение причастности к Великой Отечественной войне. Возможно, это связано с тем, что я также рассказал им про балет Хачатуряна, что он был задуман в 1941 году, поэтому идея пронизана пафосом борьбы с фашизмом, но завершил он его в 1954 году, поэтому видны элементы антисталинизма. Так что Спартак в немалой степени стал для них и героем войны. Возможно, поэтому они и стали писать на родном языке. Кстати, слово «Озоглык», которое они написали сверху на арке, это слово «свобода» на узбекском. Насколько я понял, они из приграничной области Ош, где много узбеков и смешанный язык. Еще там есть надпись «Ана ватан», то есть Родина-мать.
ЕИ: Интересно, что для них значит Родина-мать.
ХС: Не знаю, но я увидел, что у них всплыли какие-то советские клише. Мне интересно, где мы соприкасаемся. Опыт этой работы показал, что у нас есть общая история.
ЕИ: А вы не думали над тем, чтобы сделать не фильм, а спектакль? Мне кажется, что театральная форма предполагает большие возможности для взаимодействия, в том числе и между зрителями и мигрантами, и мне лично этого взаимодействия не хватает. Два мира – мигрантов и арт-сообщества – остаются замкнутыми на себе.
ХС: Во-первых, свою предыдущую выставку «Натуральный обмен» я рассматриваю именно как спектакль. На ней были мои тексты, аудиозаписи, и каждый зритель должен был ходить, читать и слушать. Для меня это абсолютный документальный театр, разговор от первого лица, но без участия актеров. Я даже предлагал эту идею Театр.doc, но не срослось.
Во-вторых, для меня это не социальный проект, не прямой политический жест, а художественное высказывание политического содержания. В-третьих. Может, это покажется грубым, – я прощу прощения. Если хочется взаимодействия – идите в мигрантскую организацию, устройтесь на работу на любой склад. Взаимодействие должно происходить за пределами выставки.
ЕИ: На выставке есть урна с приклеенным на нее декретом о Дополнительных выборах в Парижскую коммуну. В связи с ней я вспомнила проект Эми Балкин «Публичный смог», показанный на documenta13, в рамках которого художница предложила зрителям заполнить бланк петиции в ООН и в правительство Германии, призывавшую чиновников провозгласить атмосферу Земли частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое прямое взаимодействие, в некоторой степени вызов.
ХС: Для меня же самый важный момент в том, что это и не урна вовсе, а какой-то старый деревянный ящик с дыркой. Он валялся у меня в мастерской сто лет и вдруг стал урной для голосования. С этим перекликается идея выставки: утопия скрыта в повседневности. Моя задача как художника, который работает в том числе и с материальным миром, раскрыть скрытый в окружающей нас материальности эмансипаторный потенциал.
И честно говоря, я не верю в петиции, написанные на выставке. Это, как мне кажется, такой же художественный жест, как и все мои железки. Все равно мы действуем не в открытом паблик-спейс, а в автономном пространстве искусства. Подобным занимался еще Ханс Хааке, у нас – Юрий Альберт. Но я не касаюсь подобных методов, не работаю в практике взаимодействия, прямого участия.
ЕИ: Почему?
ХС: Все зависит от контекста. Хансу Хааке удалось взорвать арт-сообщество и поставить вопрос о легитимности музея вообще. Мне также не близка позиция артивизма. При всем моем уважении к смелости тех, кто этим занимается, мне не кажется это эффективным и выходящим за рамки искусства. С одной стороны, это должно быть суперзаманчиво: невероятно романтическая идея – влиять непосредственно на массы своим искусством. Художественный жест и политическая акция сливаются в неком диалектическом единстве. Вопрос, является ли это единство действительно диалектическим или все-таки одна из составных частей «пожирает» другую? То есть не остается ли там голая политика или чистое искусство? Кроме того, я очень серьезно отношусь к политике и к тем, кто решается ей заниматься – ходить на демонстрации, участвовать в политическом движении.
ЕИ: Недавно интернет-издание The-Village проводило опрос о ненависти к различным группам горожан. Долгое время лидировали мигранты, пока их не опередили гопники.
ХС: Да, собственно, мой интерес к этой теме и возник на волне возрастающей ненависти, расизма. Не нужно быть гопником, любой профессор может сказать «чурка» или «черный», проявить брезгливость и страх.
ЕИ: Кстати, практически никто из пришедших на открытие выставки так и не сел на матрасы, разложенные перед экраном.
ХС: Матрасы, кстати, были чистые. Это характерная русская традиция: на полу сидеть нельзя. Но еще, конечно, все брезгуют. Даже грузчики, которые переносили эти матрасы. Они кряхтели, но старались держаться за них двумя пальцами. «Что это я буду старые вонючие матрасы на себе таскать?». Вот их реакция.
С другой стороны, мне опять же хотелось показать, что при желании эти матрасы могут превратиться в баррикады. Половую тряпку можно покрасить баллоном и она станет знаменем. Лопата может быть не просто орудием труда, но и орудием борьбы.
ЕИ: На выставке есть инсценировка коморки рабочего с телевизором, по которому показывают фильм о киргизах и о попытке привить им идеи классовой борьбы. Расскажите об этом фильме.
ХС: Это советский фильм середины 60-х годов, первый фильм Андрея Кончаловского. «Первый учитель» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Это история о бывшем киргизском батраке, который попал на фронт во время Гражданской войны и буквально «заболел» идеей освобождения, революции. Он возвращается в село, но его сознание изменилось, он хочет передать вирус революции односельчанам и пытается открыть школу. Это трагический фильм, и его трагедия еще и в настоящем: после распада Советского Союза многие страны, включая Киргизию, скатились практически до уровня начала прошлого века.
Так что этот фильм важен и как историческая отсылка, и как указание на реальность. Кто играет в моих фильмах? Эти выросшие детки из фильма Кончаловского. Но его фильм заканчивается с долей надежды: главный герой берет топор и начинает рубить самое старое дерево в деревне, чтобы построить школу. И дед, который его приютил после возвращения с войны, который и вырастил это дерево и у которого ничего, кроме него и нет, тоже берет топор. Все думают, что он зарубит героя, но он начинает рубить это дерево вместе с ним. Утопическая идея побеждает. А в реальности победили баи.
ЕИ: Герой в фильме в своих попытках политизации населения деревни, начинает говорить о революционной борьбе как о ритуале и через ритуал пытается привить односельчанам левые идеи. Вы используете практики игры, превращая мигрантов в актеров.
ХС: Повторю, я не ставил себе никаких миссионерских задач и целей их политизировать. Но несмотря на это, важно то, что съемка в этом и других моих фильмах стала неким даже не эмоциональным и не интеллектуальным, а телесным упражнением протеста. Возможность захватить арку, раскрасить тряпку, написать граффити, – это и есть проживание восстания – пусть и не по-настоящему. И им это нравится! Так, в моем предыдущем фильме «Перед бурей» нужно было бежать с красным флагом и кричать «Ура!», и они делали это с энтузиазмом. Кстати, войдя в кураж, один рабочий начал кричать «Ура! Ура! Советский Союз!». Получается, как по Беньямину, такая вспышка молнии, сгусток истории, который оказывается актуальным настоящим. Я называю это упражнением протеста, который был не главной задачей, но важной составляющей. Когда я случайно встречаю тех, кто снимался у меня, они сразу вспоминают съемки, снова повторяют «Я Спартак».
Кроме того, этот фильм важен для меня и в том смысле, что в мигрантском цикле я пытаюсь анализировать и свою позицию как художника. Я и есть этот первый учитель. Это своего рода внутренняя подъебка: мы пытаемся делать все честно, но выходит все равно наивно. Эта амбивалентность проступает, как только я вступаю в контакт с мигрантами, потому что мы все равно выступаем с неравных позиций. «Натуральный обмен» как раз был такой попыткой осмысления: кто я, кто они, как они меня воспринимают, как я их.
ЕИ: В других своих работах вы часто обращаетесь к теме памяти. В мигрантском цикле эта тема проявляется опосредованно, в попытке пробудить в мигрантах (и в зрителях, конечно) ощущение «актуальной истории». Сейчас вы говорите о всплывающих у киргизов советских клише. А вы не пытались найти что-то в их истории?
ХС: Я не ставил перед собой такую задачу, поэтому не искал. Мне кажется, что самое интересное и непростое в их истории – это советский период, период модернизации. Но главное – это то, что нас объединяет. Если удалится в дореволюционное время, то я обнаруживаю себя где-то в черте оседлости, в каком-нибудь украинском местечке, а они – в Средней Азии. Как мы могли соприкоснуться? Нужно искать точки соприкосновения. Кроме того, в теме памяти я пытаюсь перейти от того, как мы помним, к исторической памяти
ЕИ: Если рассматривать мигрантский цикл целиком, то можно сказать, что вы постоянно проверяете на состоятельность различные стратегии. Сначала взаимодействие, когда вы покупаете им новые ботинки, в обмен на старые, сейчас – попытку привить мотив классовой борьбы через игру. А что дальше?
ХС: Большой вопрос. Может быть, углубление, попытка найти точки соприкосновения через советское прошлое, хотя оно изрядно подзабыто и выросло целое поколение, которое почти ничего не помнит и не знает русский язык. Но спроси любого – у каждого воевал дед, прадед. Мне не хочется бросать эту тему, если можно так сказать, я обязался ее разрабатывать.
Сейчас я буду делать цикл небольших лабораторных выставок, опять же на «Фабрике», который объединен рабочим названием «О насилии». Название не новое, но в нашем контексте к этой теме обращаются не так часто. Мы попытаемся проанализировать различные аспекты насилия, но не прямого физического (хотя, возможно, коснемся и этого), а скрытого, так сказать, расстворенного в нашей жизни, попробуем рассказать об истоках и различных проявлениях насилия. Первая откроется во второй половине ноября. В течение года их будет четыре. Первая, «Серая зона» будет посвящена различным формам и уровням коллаборации с властью. В ней примут участие Тася Круговых, Никита Дегтярев, Даша Кулагина, Алексей Радинский Но это не ставка на молодых, не поиск свежей крови, просто – по вполне понятным причинам – молодые в первую очередь обращаются к насущным темам. Тема насилия связана и с мигрантским циклом. Вот мы сейчас говорим об угнетении, а не являемся ли мы сами угнетателями? Мы все в серой зоне. И это большой вопрос, который требует исследования.
Фотографии: предоставлены Хаимом Соколом; Елена Ищенко
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.








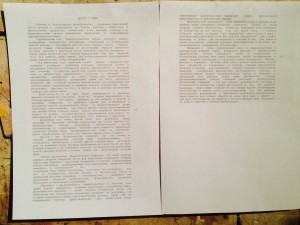




















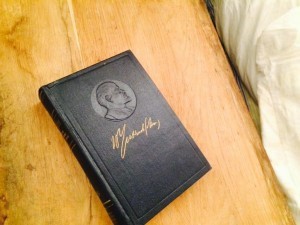






















[…] Интервью с художником читайте по ссылке […]
[…] которое было явлено в предыдущем проекте Хаима Сокола Times New Roman, сменяется здесь вязким ощущением места, где […]
[…] было явлено в предыдущем проекте Хаима Сокола Times New Roman, сменяется здесь вязким ощущением места, где […]