Эш Амин,
Найджел Трифт.
«Города:
переосмысляя городское»
aroundart.org публикует отрывок из главы «Близость и поток в городе» книги Эш Амина и Найджела Трифта «Города: переосмысляя городское». Книга вышла в 2017 году в нижегородском издательстве «Красная ласточка» в серии «Городские исследования» (перевод с английского Владимира Николаева).
Иллюстрации: Андрей Чекунов, из серии Leipziger Lerche*
*«Лейпцигский жаворонок»— миндальные пирожные, которыми знаменит Лейпциг.


Ностальгический город
Очень многие рассказы о современной городской жизни, особенно наиболее известные истории таких авторов, как Георг Зиммель и Вальтер Беньямин, повествуют об аутентичном городе, скрепленном воедино взаимодействием лицом-к-лицу, связность которого стала достоянием прошлого. Если подобный аутентичный город ныне и существует, то он всего лишь тень самого себя и только подчеркивает то, что было утрачено. В больших описаниях истории современный город — больше потеря, чем приобретение.
В классических повествованиях Зиммеля и Беньямина удары по аутентичному городу наносятся с четырех разных сторон, хотя все они исходят от все увеличивающегося оборота и обмена товаров. Прежде всего, это деньги. Подтверждая диагноз, поставленный Марксом, деньги понимаются как своего рода культурная кислота, как разъедающая сила, которая, ставя во главу угла коммодификацию, разрушает общительность. Современная жизнь все более и более превращается в проблему «простого» расчета. Зиммель подытожил этот взгляд в своем замечании, что «полное бессердечие денег отражается в нашей общественной культуре, самой по себе определяемой деньгами» (1990: 346). По мере того как все становится выразимо в терминах «просто денег», качество становится количеством. Это «братание невозможностей» вымывает из мира цвета и различия (Marx 1964: 169; цит. по: Маркс 1974: 149). Личностные отношения тоже попадают во власть «растущего безразличия денег» (Simmel 1990: 444): они все больше оказываются способными функционировать лишь через ограниченное выражение, допускаемое денежными отношениями. Таким образом, при искаженных целях денежной экономики разлагается само качество опыта.
Вторым ударом становится более общий процесс «овеществления». Культура вещей берет верх над культурой людей. Все более самостоятельное движение вещей угрожает всему человеческому: «…пессимизм, с которым, по всей видимости, большинство наиболее глубоких мыслителей смотрит на нынешнее состояние культуры, имеет свои основания во все расширяющейся пропасти между культурой вещей и культурой людей» (Зиммель, цит. по: Frisby 1991: 89). Но не все здесь негативно. Ни Зиммель, ни Беньямин не занимают примитивную антитехнологическую позицию. Оба видят в технологии новое тело как для человечества, так и для природы, а в городе — «технологический узел человеческого обитания, место, где сильнее всего выражено столкновение технологии и человеческой традиции» (Caygill 1998: 131). Однако новые гипотетические возможности технологии постоянно сводятся товаром к чему-то гораздо меньшему, чем должно было бы быть, и новый дом, коим мог бы стать город, заменяется отчужденным визуальным спектаклем.


Третий удар — это постоянное ускорение жизни, ведущее к размыванию форм. Круговорот жизни в современную эпоху искореняет ценности, ниспровергает устоявшиеся выводы. В частности, в современной культуре присутствует «тенденция создавать дистанцию»: социальные отношения характеризуются отрицанием подлинно близкого контакта:
«возможность легко добраться до самых отдаленных точек усиливает в нас эту „встревоженность в отношении контакта“; „дух эпохи“, богатство внутренних связей с более отдаленными в пространстве и времени интересами делает всех нас более чувствительными к ударам и раздорам, приходящим из непосредственной близости и контакта с людьми и вещами» (Зиммель, цит. по: Frisby 1991: 77).
Далее — еще один удар: возникновение массмедиа, одновременно олицетворяющее современность и репрезентирующее ее. Массмедиа, типичным образцом которых служит кино, являются частью общего «разрушения традиции», глубокой перестройки опыта. Эту перестройку можно толковать пессимистически: как ликвидацию культурного наследия. Потеря произведениями искусства таких свойств, как аура, оригинальность и уникальность, — доказательство более общего преобразования структуры опыта в сторону экономии влечений, которое может привести к новому варварству. Но в то же время эту перестройку можно толковать и более оптимистично — как учреждение нового репертуара грез и возможностей, как книгу возможных будущих, высвобождаемых спекулятивными качествами искусства. Например, Беньямин утверждает, что кино
«умножает понимание неизбежностей, управляющих нашим бытием… [и] приходит к тому, что обеспечивает нам огромное и неожиданное свободное поле деятельности! Наши пивные и городские улицы, наши конторы и меблированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, безнадежно замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этот каземат динамитом десятых долей секунд, и вот мы спокойно отправляемся в увлекательное путешествие по грудам его обломков. Под воздействием крупного плана раздвигается пространство, ускоренной съемки — время… фотоувеличение не просто делает более ясным то, что „и так“ можно разглядеть, а, напротив, вскрывает совершенно новые структуры организации материи…» (Беньямин, цит. по: Caygill 1998: 112; Беньямин 2000: 145).
На нескольких разных уровнях, следовательно, далекое становится близким, и дистанция тем самым переопределяется.
Результат этих четырех ударов, по крайней мере, ясен. Это мир, который быстро катится под откос или находится под угрозой такого падения, и под вопросом здесь оказывается характер современного городского опыта. Если этот мир и не катится в социальную и культурную пустоту, то определенно близок к тому.


Приведем лишь один пример того, как работает этот прогноз: понятие шока у Зиммеля и Беньямина. Для обоих авторов современная жизнь — это состояние гиперстимуляции; общая масса стимулов при этом столь велика, что они не могут быть ни бессмысленными, ни осмысленными. Реакция на это состояние оказывается по существу неврастенической; нервные системы перегружены и пребывают в усталости. И это, в свою очередь, порождает приспособительное поведение, например блазированные установки. Рассмотрим беньяминовский вариант этого аргумента. Его понимание современного опыта было неврологическим. Так, он
«хотел проверить „верность“ гипотезы Фрейда, что сознание парирует шок, не позволяя ему проникнуть достаточно глубоко, чтобы тот мог оставить постоянный след в памяти, применив эту гипотезу к „ситуациям, далеко отстоящим от тех, которые имел в виду Фрейд“. Фрейда интересовали военные неврозы, травмы „контузионного шока“ и несчастных случаев, мучившие солдат Первой мировой войны. Беньямин утверждал, что это военное последствие шока стало в современной жизни „нормой“. Теперь восприятия, бывшие когда-то осознанными рефлексиями, стали источником шоковых импульсов, которые сознание должно парировать» (Buck-Morss 2000: 104).
Субъекту были доступны различные способы, чтобы организовать этот новый опыт. Первым среди них было создание новых средств тактильного присвоения города, поддержанных существованием новых медиа, таких как кино, служащих как новыми источниками шока, так и новыми средствами приспособления к такому опыту.
Эти виды описаний стали постоянным рефреном в литературе о современном городе, подкрепленной той формой гуманизма, которую мы коротко охарактеризовали в предыдущей главе. Усиленные постоянными взаимными ссылками, они создали самодостаточный нарратив упадка. Мы не то чтобы непременно не согласны с этим нарративом. Да и как бы мы могли с ним не согласиться? В целом, за все время было сделано так мало серьезной эмпирической работы, которая бы его подтверждала, что мы просто не можем знать, имеет ли он законную силу. Вместе с тем мы определенно можем выдвинуть в отношении него серьезные возражения.


Начнем с того, что есть небольшая загвоздка с деньгами. В последнее время несколько авторов открыто оспорили описание денег как разъедающей и бесплодной в культурном отношении силы (см.: Zelizer 1994; Dodd 1994; Leyshon and Thrift 1997; Thrift and Leyshon 1999; Furnham and Argyle 1998), как безличного знаменателя, работающего в том духе, что «как только деньги вторгаются в сферу личностных отношений, они неизбежно склоняют эти отношения в сторону инструментальной рациональности» (Zelizer 1994: 11; Зелизер 2004: 43). Вместо этого в поле зрения оказывается мир множественных денежных сетей, зависящих от совершенно разных денежных практик:
«разнообразные сети социальных отношений и смысловые системы маркируют современные деньги, привнося контроль, ограничения и различия, которые оказываются столь же действенными, что и в случае распределения примитивных денег. Множественные деньги в современном мире могут и не быть столь же легко узнаваемыми, как раковины, монеты, медные бляшки или камни у первобытных общин. Однако их невидимые границы ничуть не менее ощутимы. Иначе как бы мы, к примеру, отличали взятку от награды или подарка, зарплату — от гонорара, а пособие — от жалования? Как мы узнаем разницу между выкупом, бонусами, чаевыми, компенсацией за ущерб или премией? Действительно, между этими видами платежей есть количественные различия. Однако нет сомнений в том, что существование всех этих словесных обозначений обусловлено не только различиями в суммах. Мы просто не сможем постичь мир денег, если упустим из виду эти качественные различия» (Zelizer 1994: 25; Зелизер 2004: 60).
Практики, производящие эти сети и производимые ими, очень изменчивы в пространстве и порождают города, в которых под видом одного платежного средства вращаются все виды денег.
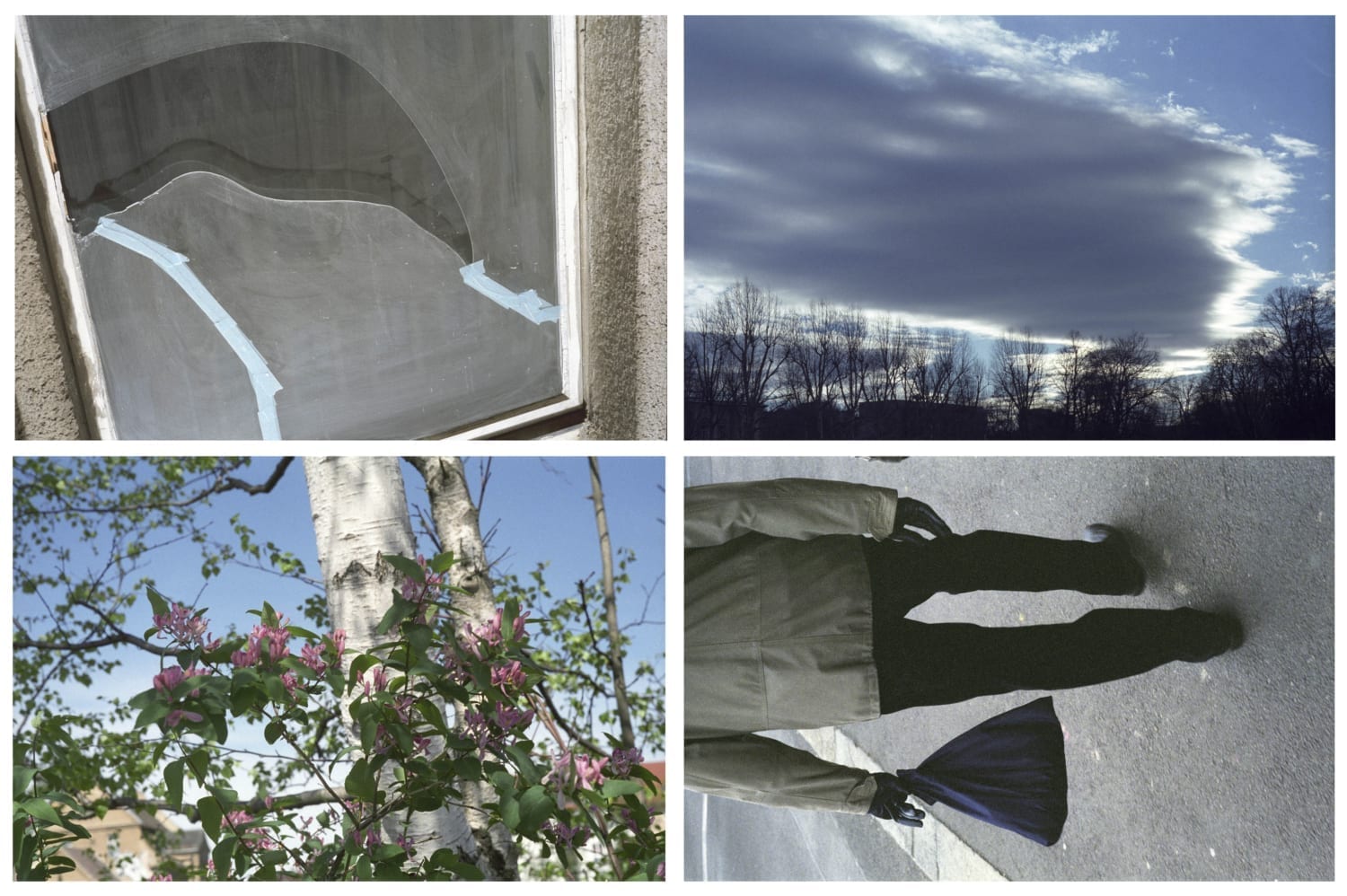
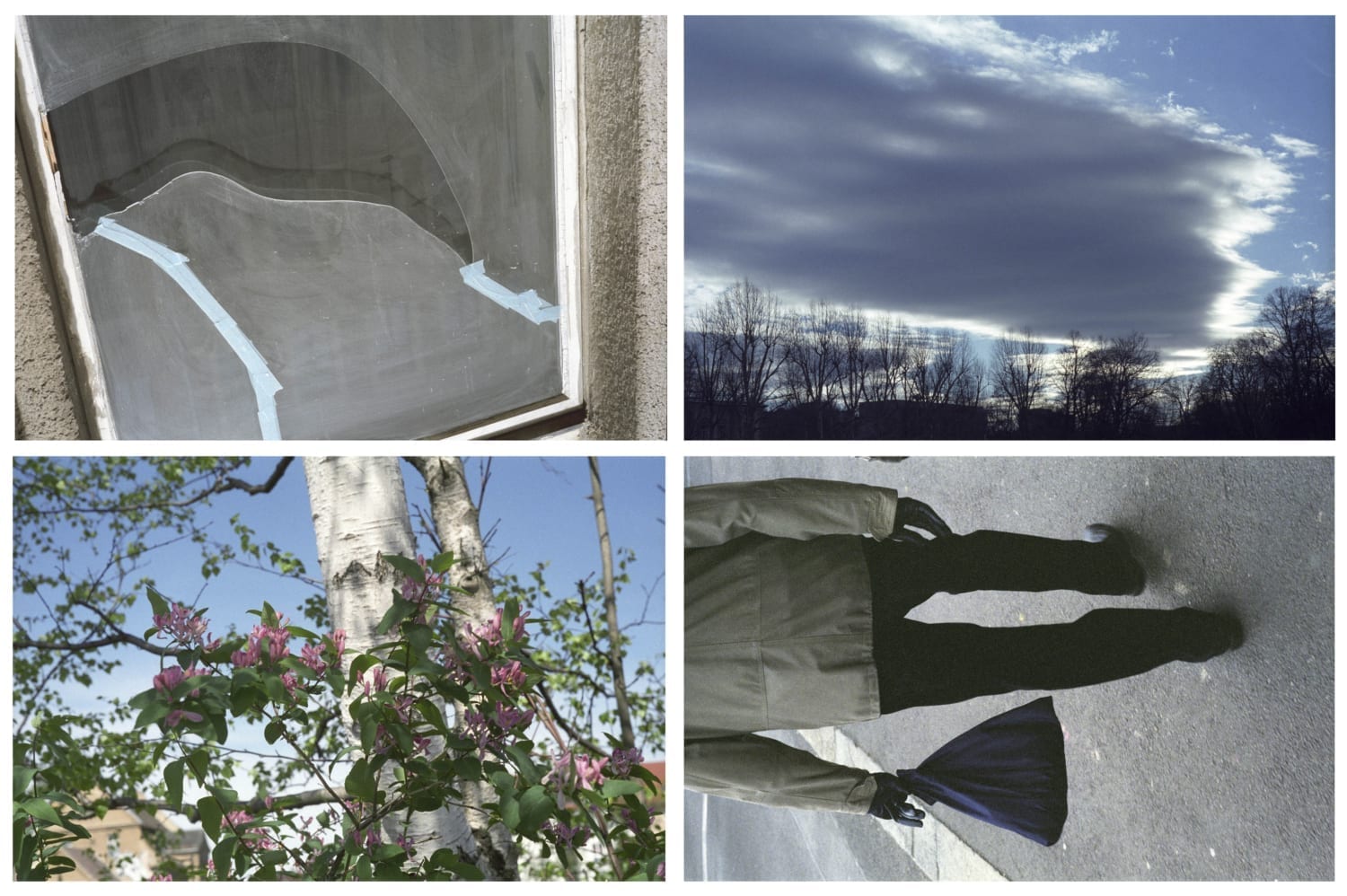
Кроме того, есть небольшая загвоздка с вещами. На общетеоретическом уровне на вещи смотрят теперь гораздо благосклоннее. Они заняли в конституции человечности место, какого никогда на прежних этапах развития социальной науки не занимали. Например, акторно-сетевая теория смешивает людей и нечеловеческие сущности, субъекты и объекты. Вместо очищенных, гомогенных множеств, определенных схожими типами действия или правил, мы имеем гетерогенные гибридные сети, заключающие в себе «потоки инструментов, компетенций, литературы, денег, которые связывают и соединяют лаборатории, предприятия или администрации» (Latour 1993). Таким образом, чистых социальных актов лицом-к-лицу больше не существует, они всегда опосредованы вещами. «Взаимодействие лицом-к-лицу существует между бабуинами, но не между людьми» (Латур, цит. по: Dosse 1998: 97). Неведомую до сей поры важность вещи приобрели и на эмпирическом уровне. Так, бурный рост числа этнографических исследований на тему потребления показал, что вещи занимают центральное место в человеческой жизни. Более того, их активно потребляют во всех видах сетей пользования: «некоторые объекты имеют социальную жизнь, количественно отличную от других, а также, соответственно, свои особые потенциалы для конструирования жизни людей, которые их контролируют (или ими контролируются)» (Weiss1996: 14). Некоторые вещи определенно являются товарами — и это имеет серьезные последствия (Stallybrass 1998), — но было бы ошибкой считать, что процесс коммодификации заполняет собой всю жизнь. «Коммодификация никогда не закрепляет все объекты в товарной форме, т. е. траектория любого объекта может со временем отклониться от нее» (Weiss 1996: 15). Все это говорит о том, что нам нужно думать о вещах гораздо разнообразнее, и, в пределе, мы можем придать им их собственный вид агентности либо как части более широких человеческих/нечеловеческих сетей, либо как результату требований, которые предъявляются ими к их пользователям (например, различных навыков использования), либо даже как самостоятельным субъектам (Pickering 1992; Collins and Kusch 1998).
Затем, есть небольшая загвоздка с ускорением. Мысль о том, что мы имеем дело с миром постоянно ускоряющихся изменений, кажется на первый взгляд привлекательным положением. Но при ближайшем рассмотрении она не выдерживает проверки. Многочисленные критические разборы показали, что этот момент сильно преувеличивается, вплоть до карикатурности (см., например: Thrift 1995, 1996b; May and Thrift 2001). Начнем с того, что этот тезис берет начало во внешне эффектных исторических описаниях, которые редко допускают возможность альтернативных прочтений и, следовательно, никогда не содержат в себе попыток установить какие-либо свидетельства, которые бы их уравновешивали. Кроме того, он обычно зависит от жесткого технологического детерминизма, считывающего характеристики объектов и проецирующего их на культуры, как если бы все происходящее было культурным отражением быстрого ускорения. Другие культурные практики, не удовлетворяющие этой модели, замалчиваются. И наконец, он вытекает из принципиально линейного взгляда на изменение, который берет самые быстрые примеры как типичные для будущего, неспособен принять во внимание конструирование новых очагов медленности, не может понять, что пространственные вариации не выстраиваются вокруг среднего, а сами по себе конститутивны, и, следовательно, не замечает, что хотя некоторые сети и могут быть быстрыми, они обычно очень ограниченны и стоят в стороне от большинства. Как признавал Беньямин, здесь нужно проявлять величайшую осторожность, поскольку принятие этой перспективы может привести либо к ностальгическому антитехнологическому воззрению, либо к утверждению или даже прославлению технологии (Caygill 1998). Эффекты технологического ускорения действительно могут быть пагубными (см. Shenk 1998), но они могут быть и позитивными (см., например: Thrift 2000c).


И нельзя не затронуть еще одну проблему. Это развитие массмедиа. Со времен Зиммеля и Беньямина массмедиа приобрели такие масштабы, которых даже они не могли предвидеть: в настоящее время они превратились во всеобъемлющую экологическую среду. Так, например, ДеНора (2000) и Маккарти (2001) указывают на огромное число способов, которыми музыкальные записи и телевидение, соответственно, по-разному населяют нынешние городские пространства и времена, зачастую лишь очень слабо маркируя их своим присутствием — но при этом все-таки в них наличествуя. Неприметно. Каждый день. Когда медиа достигли всеохватности, их эффекты стали более дифференцированными и сложными, а также более могущественными. Уже невозможно мыслить массмедиа как единую вышестоящую инстанцию. Существует много разнообразных специфичных для тех или иных площадок медиа, производимых для множества разных аудиторий и самими этими аудиториями. Массмедиа одновременно связывают и раскалывают, и их влияние на города нельзя свести ни к капиталистической фантасмагории образов, ни к спекулятивному расширению опыта (Burgin 1998; Donald 1999). Они репрезентируют очень широкий круг вовлечений, и это подчеркивается тем фактом, что «медиа, имеющие местное базирование, всегда должны взаимодействовать с непредсказуемостью пользовательских траекторий и локальных систем» (McCarthy 2001: 113). Иными словами, повседневные локальности, в которых располагаются медиа, не образуют просто вариаций на одну глобальную тему (например, сетевых идеологий). Они пересекаются и усложняются способами, которые сами по себе имеют конструктивный характер.
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.


























