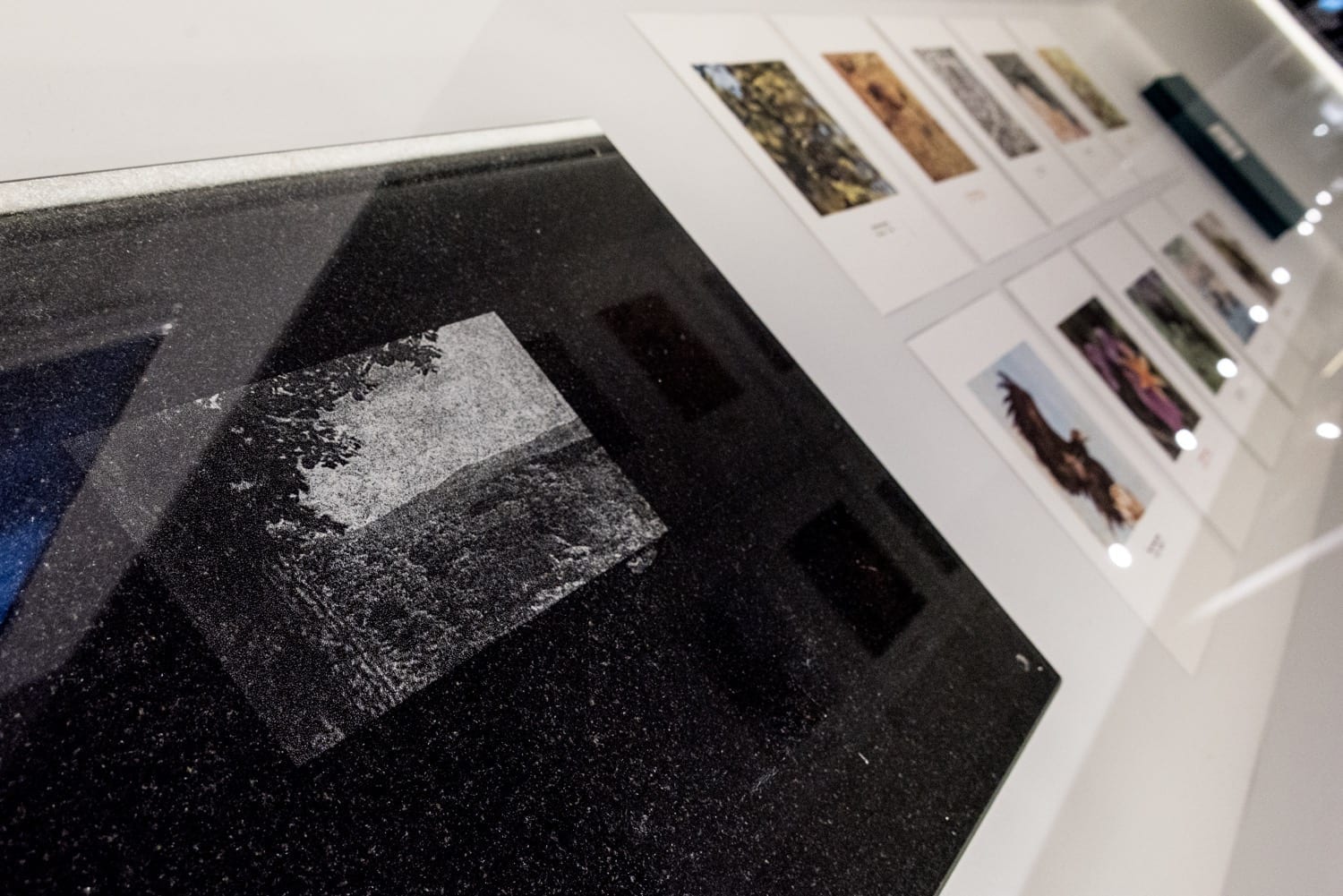Удел Человеческий. Сессия IV.
«Места: одно за другим»


В рамках проекта «Удел человеческий»: «Сессия IV. В поисках места. Дом. Бездомность. Путешествие. Беженство»
20 июня – 19 августа 2018
Куратор: Виктор Мизиано
Сокуратор: Анна Журба
Участники: Юне Баба-Али, Лука Витоне, Елена и Виктор Воробьевы, Аслан Гайсумов, Наталья Зинцова и Хаим Сокол, Николай Карабинович, Кимсуджа, Таус Махачева, Александр Михалкович, Деймантас Наркявичус, Мариетица Потрч, Леонид Тишков, Евгений Фикс, Вадим Фишкин, Ергин Чавушоглу, Иева Эпнере
Еврейский музей и Центр толерантности
Москва
.
В течение последних десятилетий, получивших наименование эпохи глобализации, мы стали свидетелями беспрецедентных процессов миграции. Люди, спасая свою жизнь или в поисках лучшей доли, движимые узко профессиональными целями или же праздным любопытством перемещаются с места на место, осваивая новые территории, языки, культуры. Этот опыт встречи с иным может позволить взглянуть на привычное с дистанции нового опыта и привнести на новую землю, память об оставленной родине, рождая таким образом причудливые гибридные идентичности. Кажется, с концом традиционной культуры и ослаблением национального государства человек лишается чувства корней, что, однако, не избавляет его от потребности обрести свое место. Он ищет его в пределах заданного современным миром поля, мечась между фундаменталистскими призывами к укоренению и призывами сверх-современности к горизонтальному скольжению по поверхности. Как бы там ни было, но поиск этот суть неизменный удел человека, так как обретение места суть обретение себя.
<...>
Место, в отличие от пространства, задается не географическими координатами, а тем, что оно значит для человека. Немецкий философ Мартин Хайдеггер говорил, что для того, чтобы создать место, необходимо «строить, жить, мыслить». Оно создается человеком не столько путем его буквального конструирования, сколько через опыт его осмысления и существования в нем. Именно поэтому пространство, чтобы стать местом, должно стать неотделимым от человека, а человек, в свою очередь, должен найти себя в неком месте.
Баба-Али часто обращается в своей практике к теме цивилизационных и религиозных конфликтов и поиску возможных путей их переосмысления. Так, в работе «Шалом Алейкум» художник превращает самый заурядный бытовой предмет в утопический жест гостеприимства. Обращаясь к практически универсальной традиции использования придверного коврика, отмеченного в самой распространенной англо-саксонской версии особо ироничным в данном случае словом welcome («добро пожаловать»), художник смешивает в своей работе арабский и иврит. Он создает не только предмет, похожий на реди-мейд, однако таковым не являющийся, но и лингвистическую конструкцию, одновременно кажущуюся знакомой и полностью выдуманную. Дело в том, что как в арабском, так и в иврите самое распространенное приветствие дословно переводится как «мир вам», общность этих фраз на двух языках можно уловить даже фонетически. Именно из частей этого универсального приветствия на языках, столь явно ассоциирующихся сегодня с глубоким политическим противоборством, Баба-Али создает фразу «Шалом Алейкум», которая является не только утопическим обещанием всеобщего мира, но и неким индикатором современного состояния дел.
<…>Однако в данной работе важна не только языковая составляющая. Придверный коврик как предмет, разделяющий обычно частное и общественное пространство, символически отсылает не только к феномену гостеприимства, но и к вопросу границ, их условности, фактам их незаконного установления или, наоборот, непризнания, изменения, пересечения — то есть к тому гордиеву узлу, который сделал палестино-израильский конфликт одним из самых сложных в современной истории человечества. Поэтому работа «Шалом Алейкум», расположенная на входе в пространство Еврейского музея и центра толерантности в Москве, приобретает особое значение и дополнительное утопически-футуристическое измерение. Баба-Али любит работать в общественном пространстве, и в решении интересующих его формальных задач стремится выстроить горизонтальный диалог со зрителем и предоставить ему право активного выбора. В данном случае художник ставит вопрос о физическом взаимодействии с произведением искусства, предоставляя зрителю возможность решить, наступать на работу или нет, а, возможно, и более широко — замечать ли ее или нет.Почти все произведения Вадима Фишкина работают с феноменом места. И почти всегда они строятся на том, что, созданное художником место, оказывается совсем не тем, за что мы его поначалу приняли. Реальность у него всегда несет в себе иллюзорность, достоверность всегда оборачивается инсценировкой. Однако это отнюдь не значит, что его цель — развенчать место, напротив, таким образом он создает места. Ведь место — это не топографическое понятие, это не фрагмент территории, место всегда причастно человеку. Именно человек работой воображения субъективирует его, делает место своим. Более того, у места может и не быть реальной территории, место может быть просто плодом воображения, фактом культуры. Именно о таких местах и напоминает нам работа «Словарь воображаемых мест».
В основу этой небольшой инсталляции положено одноименное издание — «Словарь воображаемых мест», составленный Альберто Мангуелем и Джанни Гуадалупи и впервые увидевший свет на английском языке в 1980 году. Все упомянутые в книге места нам прекрасно известны, но только их не существует в действительности, — это Атлантида и Шангри-Ла, страна Оз и страна Чудес, Утопия, наконец, и т. п.
<…>У Фишкина названия этих «воображаемых мест» попеременно произносят два голоса — один прерывистый и глубокий, а другой высокий и нервозный. Раздаются эти голоса из небольшой подвешенной на стене деревянной коробки, на которой укреплены две лампочки, соответствующие этим двум персонажам: смена голоса сопровождается зажиганием соответствующей лампочки. Этот странный, почти игрушечный объект, в котором есть нечто от радиопьесы и от кукольного театра, разумеется, придает работе ироническую интонацию. Так утопия у Фишкина встречается со смехом. Впрочем, подобная встреча вполне закономерна: еще Михаил Бахтин отмечал, что смех и утопия родились одновременно — в эпоху Возрождения. Ведь становление современности привело к осознанию человеком своей субъектности и обретению дистанции по отношению к реальности, что, в свою очередь, создало условия как для осмеяния раскрывшегося несовершенства мира, так и для проектов его усовершенствования. Владимир Пропп, в свою очередь, уверял, что смех происходит из осознания, что за оболочкой реальности не содержится ничего, что она скрывает пустоту. Марионеточный акустический спектакль, разыгранный Фишкиным в его работе, не оставляет сомнений: все места, о которых идет речь, — фикция и иллюзия. И все же смех, даже разоблачающий иллюзорность мира, всегда неотторжим от реального присутствия человека. Пусть это будет не конвульсивный сотрясающий плоть раблезианский хохот, пусть это будет всего лишь улыбка, но человек всегда причастен смеху своей телесностью. Комизма не существует вне собственно человеческого, так как чтобы смеяться, комическое нужно уметь увидеть, дать ему некоторую моральную оценку или совершить над ним умственную операцию. Искусство Фишкина раскрывает симптоматику нашей эпохи, которая, иронизируя над утопией, пытается ее сохранить, и которая пытается создать вочеловеченное место через признание его иллюзорности. (Виктор Мизиано)Евгений Фикс, родившись и сформировавшись в Москве, в середине 1990-х переехал в Нью-Йорк. Адаптировавшись на новом месте, став частью американской интеллектуальной и художественной жизни, он пришел к неожиданным открытиям. Так опыт отдаления от родины привел его к осознанию значимости советского опыта, его роли в определении судеб минувшего века. В результате в своих работах Фикс начинает последовательно исследовать советское наследие, расшатывая многие представления эпохи холодной войны. В частности, он показал, что вопреки, как кажется, непримиримой конфронтации Первого и Второго мира, границы между ними не были непроницаемыми. Оказалось, что, будучи антиподами, они пристально вглядывались друг в друга, взаимопроникали и были взаимозависимыми. Взяв на себя таким образом «ответственность постсоветского художника», Фикс делает еще одно важное открытие. Оказывается, советский мир не только не был отгорожен от мира Запада, но и внутри себя, вопреки бытовавшим ранее представлениям, был лишен монолитной цельности: советская субъектность несла в себе многочисленные различия — этнические, гендерные, сексуальные и т. п.
Эти ретроспективно исторические и почти исследовательские открытия Фикса были во многом мотивированы личными обстоятельствами. Осознание взаимной зависимости двух миров эпохи холодной войны помогало художнику примирить в себе два ставших ему близкими места — Россию, где он родился и вырос, и США, где ему довелось жить. В то же время его стремление раскрыть многообразие советских идентичностей родилось из протеста против склонности Запада маркировать всех выходцев из советского мира общим понятием постсоветского. В результате художник приходит к третьему столь же очевидному, сколь и неожиданному открытию: он открывает свою, ранее мало им осознаваемую, еврейскую идентичность.
Это открытие побудило его обратился к истории Биробиджана, столицы административной еврейской автономии на Дальнем Востоке СССР. И хотя этот советский социальный эксперимент, на двадцать лет опередивший создание Израиля, можно счесть неудачей, именно в Биробиджане — а не в Москве, где художник родился, и не в Нью-Йорке, где он живет, — он склонен чувствовать осуществленным свое «естественное человеческое желание быть где-то у себя дома». Поэтому в своих работах он предъявляет не историю Еврейской автономной области, а то, что может быть названо ее феноменологией, — образцы ее флоры и фауны, ее пейзажи, ее фольклор, связь с которыми обычно и задает ощущение чувственной, органической причастности месту.
<…>И все же очевидно, что это желание художника, родившегося в Москве и живущего в Нью-Йорке, обрести свое место в Биробиджане, — не что иное как утопия. Как были утопией и сам Биробиджан, и породивший его советский политический проект. Однако не является ли утопией, то есть неким умозрительным конструктом, любая идентичность, любая настойчивая попытка отождествить себя с неким местом? Ведь причастность к месту не является априорной данностью, она формируется целенаправленными усилиями, в то время как ее значимость, как и условность, осознаются, в частности, через пережитый Фиксом опыт эмиграции — опыт смены мест. Преимущество биробиджанской идентичности для него в том, что это место — и в самом деле утопия, то есть место без места, и причастность к нему суть очевидный акт осознанного выбора, без претензий на глубинную в нем укорененность. Поэтому Биробиджан, придуманный когда-то в минувшем столетии, остается местом между реальностью и воображением, местом, где идентичность, не твердея в своих основах, будет оставаться в непрестанном творческом становлении. Виктор МизианоСозданный Хаимом Соколом и Натальей Зинцовой проект «Директивы» представляет собой своеобразное развернутое перед зрителем упражнение по всестороннему анализу документальных фотографий, запечатлевших Львовский погром июля 1941 года. Фактически, выделяя в хорошо известных снимках актов насилия некие составляющие элементы, художники обнажают политику фотоизображения и механизмы ее воздействия: они обращают внимание зрителя на некоторые детали, движения, которые можно распознать в черно-белом изображении, предлагают самые разные словесные комментарии — от общих замечаний о природе документальной фотографии до наблюдений за отдельными героями снимков.
С одной стороны, они выбирают самый трудный материал в поле документалистики: как отмечает Сьюзен Сонтаг в эссе «Смотрим на чужие страдания», сцены насилия рассказывают истории, для которых человечество не может подобрать слов, и, безусловно, создают тем самым сильный эмоциональный фон. Однако из сочувствия (как к самой жертве, так и к зрителю), а также чтобы снизить эмоциональный аффект, создаваемый снимком и препятствующий рациональному анализу, художники с помощью программы Photoshop вырезают изображения объектов насилия на фотографиях, превращая их в своеобразные призраки истории — ведь несмотря на сохранение лишь контуров человеческой фигуры, напряжение сцены все же возрастает, когда мы видим зачастую достаточно безразличные лица участников погромов рядом с теми, взгляд на кого нам недоступен, но чью судьбу мы можем вообразить.
<…>Однако «Директивы» — это не только исторический экскурс, возвращающий зрителя к событиям Второй мировой войны: помимо этого художники создают своеобразный аппарат для тренировки нашей оптики и критического сознания сегодня, ведь само представление о документальных материалах и их подлинности сильно усложнилось за последние десятилетия благодаря развитию цифровых технологий. Сегодня вырванность из контекста любого изображения и влияние на его интерпретацию сопутствующего текста являются общим местом восприятия медиапространства, однако остаются эффективным механизмом пропаганды. Отсюда, вероятно, происходит название проекта, ведь директивы — это указания, то есть художников беспокоит не только сохранение памяти, но и возможность использовать исторический материал для конструирования будущего. Анна ЖурбаЧеловеческая цивилизация разработала целый институт маркирования памятных мест. Однако как осуществляется выбор этих мест и событий и как в итоге этот выбор влияет на формирование нашей памяти? Эти вопросы легли в основу работы белорусского фотографа Александра Михалковича.
Художник обращается к истории актов Холокоста на территории Латвии. Пользуясь инструментами, предоставляемыми такими онлайн ресурсами как Google Earth, Foursquare, Panoramio, художник совершает интервенции в пространство интернета. Михалкович размещает на электронных ресурсах, связывающих изображение
и геолокацию, документальные фотографии расправы над евреями, сделанные в 1941 году шарфюрером СС Карлом-Эмилем Шроттом в районе пляжа Лиепаи. Места, запечатленные на фотографиях, не занимают в большом историческом нарративе такого заметного места, как, например, Освенцим, Треблинка и другие места-символы, поэтому непосредственные пользователи подобных сервисов вряд ли ассоциируют их с трагическими событиями 70-летней давности. Полностью сохраняя верность исторической справедливости, этот проект пытается противостоять исторической амнезии, подпитываемой, в том числе, нуждами индустрии развлечений.
<…>Для поколения активных пользователей интернета виртуальное пространство стало, во многом, внешним хранилищем памяти. Именно поэтому Михалкович столь большое внимание в проекте уделяет анализу механизмов его работы, которые зрителю открываются через комментарии автора на полях скриншотов. Прежде чем изображения могут быть размещены на таких интернет-ресурсах как, например, Google Earth, они проходят проверку, целью которой является защита авторских прав. Хотя Михалкович вносил незначительные изменения в изображения, чтобы обойти этот механизм, не все его интервенции были успешными, что вызывает вопрос, действительно ли этот процесс полностью автоматизирован или существует своеобразная цензура, не то оберегающая беззаботный досуг пользователей интернета, не то заглушающая память места. Представленный в постоянной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности, этот проект вступает в прямой диалог с представленными в ней документальными материалами и еще раз подчеркивает важность активного знания, сопротивляющегося как естественному затмению памяти, так и переписыванию истории. Анна ЖурбаДеймантас Наркявичюс получил образование в Вильнюсской художественной академии, выбрав в качестве специализации скульптуру. Однако с конца 1990-х он окончательно нашел себя в искусстве видео. Кинематограф же он любил с детства, и главными для него фильмами были такие антиподные произведения, как «Судьба человека» Сергея Бондарчука и «Цвет граната» Сергея Параджанова. Поэтому его собственное экранное творчество тяготеет, с одной стороны, к развернутому повествованию, к материалу истории ХХ века, к ее самым драматическим страницам, а, с другой — к пониманию фильма как предмета непрестанного эксперимента. Сводя воедино эти столь разнонаправленные устремления, Наркявичюс опирался на творчество своего выдающийся соотечественника, отца американского киноавангарда Йонаса Мекаса, для которого радикальное новаторство имело одну главную цель: вернуть современникам чувство живого переживания минувшего, его самых травматичных моментов.
«Сказка становится былью» принадлежит к ранним работам Наркявичюса (она четвертая в его фильмографии) и может показаться крайне простой. На протяжении 56 минут мы слышим исповедальный рассказ Фаины, уроженки Вильнюса, пережившей опыт Холокоста. При этом саму героиню мы не видим: на экране же за это время меняется лишь четыре статичных изображения, снятых художником в разных местах города Вильнюса и его окрестностей. Улица, где прошло детство Фаины, фасад ее школы, один из дворов вильнюсского гетто и Рудникайский лес, то есть места, упомянутые рассказчицей. Однако эти четыре изображения есть результат достаточно изощренной процедуры. Они возникли из прямой натурной съемки, длившейся непрерывно 24 часа, при этом камера спускала затвор лишь раз в минуту. В результате на выходе получились четыре последовательности кадров — своего рода анимация, воссоздающая течение суток в четырех разных местах за 14 минут. Так фильм Наркявичюса совместил четыре дня и ночи с 56 минутами рассказа о прожитой жизни, которая охватывает историю ХХ века.
<…>Далеко не простым оказывается и композиционное решение работы: помимо рассказа Фаины, занимающего в фильме центральное место, в нем имеется еще две дополнительных коротких части — своего рода пролог и эпилог. Начинается фильм со звучания детского голоса, а затем и кадров девочки-подростка, читающей по книге на литовском языке сочиненную романтиками XIX века легенду об основании города Вильнюса. В завершении же фильма на экране появляется Хаиса Спанерфлиг, еще одна уроженка Вильнюса, жертва и герой сопротивления холокосту. Смотря прямо в камеру, она поет на идише жизнеутверждающий патетический гимн. Так, если первая часть апеллирует к далекому от реальности сказочному мифу, то третья — к утопии, питавшей трагедии и величие минувшего ХХ века, его преступления и порыв «сказку сделать былью». И все это сопрягается с исповедью — рассказом Фаины, в котором о человеческих драмах и надеждах говорится с размеренной обстоятельностью, почти буднично. И, наконец еще одно важное сопряжение: в трех частях фильма последовательно звучат литовский, русский и идиш — три языка, на которых некогда говорил город Вильнюс. Так фильм Наркявичюса раскрывает структурную комплексность опыта памяти: в нем сопрягаются разные формы времени — календарное, биографическое, историческое и мифическое. Показано и то, что наше настоящее всегда связано с прошлым, но и прошлое возможно только потому, что оно затребовано настоящим, а настоящее творится людьми, хранящими верность своему прошлому и надеждам на будущее. Вся эта сложная темпоральная и понятийная структура собственно и задает то, что принято называть местом и нашу к месту причастность. «Я никогда не пытался смотреть на историю со стороны, как сторонний наблюдатель, — говорит Наркявичюс, — я пытаюсь жить внутри ее. Я не хроникер, я лишь один из тех, кто живет внутри истории, чтобы найти ее место». Виктор МизианоРабота алматинских художников Елены и Виктора Воробьевых «Базар» была вызвана к жизни постсоветскими девяностыми и являет собой одну из наиболее значимых попыток художественного осмысления этой эпохи. Вещевые рынки и в самом деле стали одной из характерных примет того времени, и их симптоматичность сводится не только к свидетельству социальных тягот этого переходного десятилетия. Переходные, или, как еще часто определяют девяностые, переломные моменты истории сопровождаются обычно сломом казавшихся ранее незыблемыми жизненных устоев. Опыт этот — несомненно, травматичный — имеет, однако, и другую сторону. Утрата
укорененности в устоявшихся формах жизни позволяет взглянуть на них отстраненно: ведь ранее, будучи очевидными, они оставалось невидимыми. Более того, опыт утраты места позволяет понять, что любое место есть производное от стечения обстоятельств и временных условий, и, следовательно, открывает возможности создания иного, нового места. По сути, то, что продавалось на постсоветских рынках — посуда, одежда, домашний инвентарь, книги, виниловые пластинки и т. п., — это то, что окружало людей в повседневности, задавало их место. Сделать эти вещи предметом продажи вынуждала логика выживания, но именно так постсоветские люди участвовали в стирании прошлой жизни.
<…>Выставленные на продажу вещи несли в себе память о покинутом ими месте, но, став предметом обмена, предназначены были в любой момент стать частью другой жизни, внести свой вклад в формирование нового места. Поэтому развалы девяностых, как и «Базар» Воробьевых, есть также и свидетельство присущего тому времени отчаянного и массового порыва к созиданию новой жизни. Особым и крайне симптоматичным местом являлся и сам постсоветский рынок. Сложившийся стихийно, фактически нерегулируемый, с постоянно меняющимися участниками (покупатели здесь могли стать продавцами и наоборот), он несет в себе черты той текучей переходной эпохи — эпохи без места. Разложенные бессистемно на поверхности рыночного прилавка или чаще всего просто на земле, эти вещи пребывали как бы в общей горизонтали. В то время как ранее, будучи частью личного места, они были структурно и иерархически организованы. Некоторые казались важнее других, так как несли в себе более значимую практическую функцию или же более важную эмоциональную, символическую, а подчас и сакральную значимость. Здесь же, на постсоветском развале, все эти осколки былой жизни оказывались равнозначными. Так, с одной стороны, рынки эпохи неолиберальных реформ представали наглядным и почти карикатурным воплощением либеральной идеи десакрализированности и потенциальной равноправности любого объекта рыночного обмена. Но, с другой стороны, им присуща была еще одна крайне симптоматичная черта. Именно на нее и указывают художники своим наиболее эффектным и привлекающим внимание приемом — включением в работу подлинных предметов, расположенных рядом с их фотографическим воспроизведением. Вырванные из задающей место иерархической структуры, вещи впервые являют себя в своей материальной данности, мы впервые видим их такими, какие они есть сами по себе. Перестав быть частью некого места, они сами стали местом, местом-в-себе. Виктор МизианоВ работах Таус Махачевой художественное творчество встречается с культурно-антропологическим исследованием. Предметом же ее интересов — как художественных, так и исследовательских — является ее родной Дагестан, его самобытные традиции и жизненный уклад, его, как говорят антропологи, габитус. Уклад и традиции в традиционном обществе (а именно его обычно изучает культурная антропология) — это то, что позволяет человеку выделиться из природы, обрести социальность, осознать свою человечность. При этом именно к природе обращается традиционная культура в поисках образов, метафор, сакральных смыслов. Отсюда закономерно, что два эти начала — природа и культура — постоянно присутствуют в произведениях Махачевой. Cледуя установкам культурной антропологии, она показывает, что природы самой по себе не существует, природное нам известно ровно в той мере, в какой его описывает и изображает человек. Природа — это совокупность знаков.
<…>Отсюда закономерно, что в целом ряде работ Махачева обращается к основополагающей знаковой системе — к языку. Язык же, как известно, принято делить на письмо и речь, где первое есть очевидное порождение культуры, а второе — нечто укорененное в человеческой телесности, в живом опыте, то есть в природе. Именно к речи и отсылает настоящая работа Махачевой. Ведь «Вабабай, вададай!» — это транслируемое репродуктором устное восклицание, звучанием которого, собственно, и исчерпывается настоящая работа. Распознаваемого же конкретного значения у данного речевого высказывания очевидно нет. Это — как говорит художница — некий «возглас вне времени», это «какие-то слова, прорывающиеся из прошлого и памяти, но крайне живые слова». И действительно, в нашем воображении реплика эта может отсылать к неким реально существующим, но незнакомым языкам, к самым разным традициям и пластам культуры, к фольклору, к авангардному абсурдированию и т. п. Следовательно, если речь суть эквивалент природы, а письмо — культуры, то настоящая работа, подобно другим произведениям Махачевой, показывает, что речь и природа не предшествуют культуре и письму, но создаются ими. Об этом в свое время писал Жак Деррида, настаивая, что устное высказывание подчинено письму, так как оно не столько отсылает к референту, сколько к другим знакам. Более того, своеобразие настоящего возгласа — его потенциальное смысловое богатство при отсутствии конкретного значения — может быть объяснено еще одним соображением Деррида. «Вабабай, вададай!» узнает себя в том, что французский философ называл протописьмом (archi-ecriture), то есть письмом, которое есть условие письма. Своим предельно простым жестом Махачева приобщает нас к состоянию языка, когда он как бы только родился, но еще не оформился, он уже мелодично звучит, но еще не артикулирован, так как пока еще находится между природой и культурой. Наконец, как свидетельствует художница, в ее работе этот протоязык звучит голосами «плотных и твердых дагестанских мужчин». То есть звучит он из некого определенного места — места, изучению которого Махачева посвящает свое творчество. Таким образом, работа ее о том, что каждое место самобытно и неповторимо, но в каждом есть некий исходный базовый уровень, который оно разделяет со всеми другими местами. Назовем его протоместом. Виктор МизианоРабота «Маленький беженец» постоянно активирует диалектику универсального и личного, индивидуального. С одной стороны, небольшие фигурки, изображающие детей, из которых греческая художница Айкатерини Гегисян создает своеобразную процессию, — символ буржуазного благополучия и обустроенного домашнего быта. С другой стороны, собранные на блошиных рынках по всему миру и купленные через интернет, эти скульптурки очевидным образом уже давно утратили свой первоначальный символический смысл, и скорее представляют идею утраченного дома, укорененности, предоставляющей людям роскошь окружать себя нефункциональными предметами. Они представляют собой обломки человеческих жизней, обстоятельства которых неизвестны как зрителю, так и самой художнице.
Название работы отсылает к мраморной скульптуре мальчика с собачкой I века до н. э., которая хранится в Национальном археологическом музее Афин. Эта небольшая скульптура была привезена в Афины беженцами во время Второй греко-турецкой войны (1919–1922). По сути, музейный артефакт имеет схожую судьбу со скульптурками, составляющими работу Гегисян, и лишь большая общекультурная ценность уберегла его от забвения.
<…>Сгрупированные художницей в своеобразные «семьи» фигурки сливаются, объединенные общей судьбой предметов, утерявших свою символическую ценность (которую они, в отличие от музейного экспоната, имели только для хозяев), в единое шествие. Однако при внимательном рассмотрении каждая из них раскрывает географические и культурные особенности места происхождения. Еще один смысловой пласт, заложенный художницей в эту работу, связан с общим направлением ее художественной стратегии. Гегисян в своей практике ищет способы альтернативной репрезентации образов и событий, получивших широкое распространение в массмедиа. Созданная в 2017 году, в разгар европейского миграционного кризиса инсталляция не только обращается к истории вынужденной миграции, но и к актуальным новостным заголовкам и шокирующим кадрам, предлагая для их осмысления и обсуждения более мягкий и интимный тон. Анна ЖурбаЛука Витоне начинал свой творческий путь в конце 1980-х и в своем поколении принадлежит к наиболее последовательным продолжателям концептуальной традиции 1960–1970-х. Именно так — концептуально, аналитически — он понял задачу участия в выставке посвященной месту. Вместо того чтобы выставить здесь некое произведение, тематизирующее проблему места, он предпочел сделать предметом своего исследования само место — Еврейский музей и центр толерантности. Его работа «Комнаты (Еврейский музей и центр толерантности)» сводится к тому, что на стены выставочного пространства наносится вода, в которую вмешана собранная в этом пространстве пыль. Так в месте выставки выставляется то, что этому месту принадлежит. Перед нами классический пример излюбленного приема концептуалистов — тавтология.
У концептуализма, понятого в расширенном смысле, Витоне унаследовал также и интерес к некоему исходному уровню явлений, к неким первичным основам бытия. Витоне ищет «первичные структуры», как бы сказали минималисты, его искусство — это «бедное искусство», как определяли свое творчество итальянские художники-шестидесятники. И действительно, пыль — это ведь и в самом деле материя элементарная, субстанциональная. Покрывая поверхности, она принимает формы предметов, на которые ложится, то есть она лишена собственной формы, которая бы делала ее чем-то отдельным, вещью-в-себе. Гастон Башляр говорил, что ил — это «пыль воды» и что материя эта «есть бессознательное формы».
<…>В тоже же время он называл пепел «пылью огня», и утверждал, что вся эта триада — ил, пыль и дым — суть образы, в измененной и туманной форме намекающие на материю, из которой они возникают, являясь осадком четырех стихий. При этом мы постоянно изгоняем пыль из нашей повседневной жизни. Не принято жить с пылью, пыль принято стирать. При этом она неминуемо возвращается, чтобы вновь быть стертой. Вернуть месту его пыль и сделать ее видимой — а именно это делает Витоне в Еврейском музее, — значит вернуть этому месту его составляющую, которую принято не принимать в расчет. Место, хочет сказать художник — это то, что в нем есть, и то, что из него ушло. Бытие — это бытие + небытие. Эта диалектика пыли подводит к еще одному свойству этой своеобразной материи, явно задействованному Витоне в его работе. Пыль есть очевидное указание на течение времени. «Жаждет пыли всяка поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь», — писал Иосиф Бродский в «Набережной неисцелимых». А потому работа Витоне не была бы уместна на этой выставке, если бы ее место не было местом, если бы оно не имело своей интересной и даже легендарной истории. Время — это ведь и есть то, что делает место местом. Кстати, Бродский дословно повторил эти слова о пыли в своем «Натюрморте», открывающемся словами другого поэта, соотечественника Витоне, Чезаре Павезе: «Придет смерть, и у нее будут твои глаза». Являя собой диалектику бытия и небытия, пыль принадлежит не только сущему, но и смерти. «Пыль, — указывал Башляр, — служит выражением конца, который есть одновременно начало». Пыль подтверждает важную миссию места — сводить настоящее с прошлым и гарантировать ему преодолевающее смерть грядущее. Место становится местом, когда на него легла пыль. Виктор МизианоЦентральным предметом исследования словенской художницы Марьетицы Потрч являются различные архитектурные конструкции как индикаторы социального ландшафта. Архитектурное исследование на местности — неотъемлемая часть ее художественного метода, но не самоцель. «Модуль Рамот Полин с суккой» — характерный пример такого художественного исследования. В этой инсталляции Потрч соединяет архитектуру пятиугольных модулей квартала Рамот Полин в Иерусалиме, разработанную Цви Хекером, и сукку — временную постройку, традиционно возводимую к еврейскому празднику Суккот.
Проводя сайт-специфичное исследование, Потрч анализирует социальные предпосылки и историю тех или иных архитектурных решений. Так, экспериментальный модернистский проект квартала Рамот Полин, построенного в 1970-е годы по инициативе государства в качестве социального жилья, имел и важное политическое значение — расширение Иерусалима за счет земель, присоединенных в результате Шестидневной войны 1967 года. Жители района, ортодоксальные евреи, в скором времени дополнили пятиугольные модули многочисленными прямоугольными пристройками, сукками. Первоначальный вид утопического модернистского квартала был причудливо изменен в связи с потребностями его жителей.
<…>Кроме того, этот проект обращается к социальному разделению израильского общества, в котором отношение к религии определяет многие стороны жизни. Таким образом, Потрч проблематизирует модернистскую идею универсальности и обнажает влияние культуры, религии и политики на такие базовые составляющие человеческой жизни, как облик жилища. Расположение целых архитектурных модулей, изъятых из привычного урбанистического контекста, в выставочных и музейных пространствах позволяет художнице привлечь внимание зрителя к социальным аспектам архитектуры. Художница называет свои архитектурные исследования «портретами городов». Несмотря на то, что «Модуль Рамот Полин с суккой» ставит под сомнение утопические идеи модернизма, он, как и все исследования Потрч, сам несет утопические идеи преобразования мира через искусство, ведь место создают люди, его населяющие и обживающие, к которым и обращается художница. Анна ЖурбаЗвук как маркер места, создающий у зрителя пусть иногда и обманчивую ассоциацию минимальными средствами, часто используется Баба-Али в качестве художественного средства.
Мегафоны, распределенные по полу выставочного пространства, воспроизводят звуки уличной торговли, записанные художником в столице Сенегала Дакаре. Каждый мегафон транслирует лишь один голос, однако создаваемая ими вместе какофония, погружающая зрителя в атмосферу далекого и скорее всего незнакомого города, и герметичность не только не распознаваемой речи, но и неузнаваемого языка (в Сенегале говорят почти на 40 языках, как привнесенных колонизаторами, так и местных) возвращают зрителя к материальной реальности самих репродукторов звука – китайских мегафонов.
В своей практике Баба-Али часто обращается к массовой материальной культуре, используя ее продукты как реди-мейды. Художник, относящийся к поколению, не знавшему мира до активного развития процессов глобализации (и, соответственно, роста глобального рынка), точно улавливает и с нескрываемой иронией обнажает ее противоречия, которые при вдумчивом рассмотрении можно разглядеть даже в самых тривиальных аспектах повседневной жизни. Баба-Али анализирует механизмы адаптации национальных культур к реалиям глобализации и вызываемые ею культурные мутации, ведь в глобальном мире не только люди, но и предметы стремительно меняют свои места и контексты. Так, наблюдая за жизнью различных диаспор в Бельгии или проникновением атрибутов европейского образа жизни в страны Магриба, художник подчеркивает размывание идентичности современного человека и его «места», устаревание геополитического разделения на Север — Юг.
<…>Звуки рынка в Дакаре, звучащие в Москве, — это некая проверка нашего чувства реальности. Кажущаяся простота приема в работах Баба-Али обманчива. Для него любой объект массового производства уже несет в себе определенные геополитические коды, связанные с функционированием глобальной экономики. Так, в «Мегафонах» внимание художника к локальному контексту в сочетании с анализом глобальной картины оставляет открытым вопрос, о том, кто же является главным «героем» произведения. Ведь по сути один жест художника объединил и поток мигрантов из Китая в Сенегал, и местных торговцев, чей архаичный подход к торговле столь контрастирует с миром глобального электронного рынка, и непосредственных производителей дешевых китайских товаров, для которых обещанное глобализацией свободное перемещение рабочей силы превратилось лишь в очередную волну капиталистической колонизации. Анна ЖурбаАнглийское название работы Ергина Чавушоглу Liminal Crossing звучит тавтологично. Оба примененных художником слова могут использоваться для обозначения перемещения, перехода. Однако если сrossing означает перемещение в пространстве, в том числе уличный или дорожный переход, то liminal — это понятие из области культурной антропологии, породившее в русском языке термин-кальку — лиминальный. И речь в этом случае идет о перемещении иного характера — не физического, а скорее социального и экзистенциального. Лиминальность — это состояние перехода между стадиями развития человека, в процессе которого он меняет свой социальный статус, ценности и нормы, идентичность и самосознание.
К сцене, которую воссоздает художник в своей работе, применимы оба использованных в названии термина. На экране и в самом деле представлен дорожный переход, по которому перемещаются машины и люди. При этом речь идет о части дороги, которая находится между двумя пограничными пунктами, то есть персонажи, проходя по ней, совершают переход границы. И переходят ее они с тем, чтобы уже никогда не вернуться обратно. Перейдя ее, они станут гражданами новой страны, начнут в ней новую, пока еще не представимую в полной мере жизнь. Так что используя термины антропологов, можно сказать, что они совершают лиминальный переход, что они находятся в данный момент в лиминальном пространстве, оказавшись уже не там и еще не здесь.
Правильное понимание работы требует уточнения. Речь в ней идет о болгарско-турецкой границе и о конкретной исторической эпохе, о второй половине 1980-х годов. Тогда на излете коммунистической эпохи в ходе начатой болгарскими властями националистической кампании значительная часть турецкого меньшинства вынуждена была эмигрировать в Турцию. Эмигрировала и семья художника, а воссозданная им на экране сцена — перевоз через границу пианино — запала ему в память именно тогда, в самый драматичный момент его молодости, в момент перехода границы. Запала настолько глубоко, что художник, вернувшись на место событий, заново инсценировал ее и запечатлел на пленку.
<…>Пианино — мотив, отсылающий к сфере частной жизни, причем жизни обустроенной, претендующей на следование высоким культурным запросам. Решение забрать его с собой в новую жизнь мотивировано было, видимо, желанием обрести за границей достойную жизнь, создать там новое место. И все же пианино на нейтральной полосе выглядит комично, а точнее, трагикомично. Комичен этот мотив своей громоздкостью и неуместностью на проезжей части, но при этом свидетельствует, сколько силы дает человеку надежда, оправдаться которой, возможно, и не суждено. Рожденная из личного опыта, работа эта адресована многим и многим. Эмиграция, смена мест, добровольная или вынужденная — это сегодня удел миллионов. Но можно сказать и шире — это удел всего человечества нашей так называемой поздней современности. Все мы пытаемся унести на новое место неподъемный груз прошлого, который там чаще всего оказывается неуместен, теряет свою ценность и смысл. А можно сказать и иначе: все мы, оставив старое место, так не обретем нового, застряв навсегда в лиминальной зоне, в состоянии нескончаемого перехода через переход. Виктор МизианоМотив сферы, положенный Леонидом Тишковым в основу его работы, имеет давнюю историю, в ходе которой культура приписывала ему самые разные символические смыслы. Пытаясь обобщить их, современный немецкий мыслитель Петер Слотердайк пришел к выводу, что сфера является универсальным символом человеческого существования: жить, строить сферы и мыслить — это по сути одно и то же. Потому что «люди — это существа, которые конструируют сферы». Идеи эти вомногом созвучны смыслам, которые Тишков вложил в основной мотив своей инсталляции. Ведь сфера в его работе призвана воплотить реальную человеческую судьбу — судьбу отчима художника, Александра Давидовича Гильгенберга. Впрочем, можно и уточнить: для художника (как явствует из названия работы) мотив этот — подвешенный в воздухе вращающийся шар — ассоциируется с перекати-полем, растением, оторванным от корней, которое ветер гонит по степи. Ведь Александр Гильгенберг, как объясняет Тишков, был из поволжских немцев, и в 1941 году он и его многочисленная семья, как и миллион его соотечественников, были депортированы в Казахстан. С тех пор он так и не смог вернуться на родину и, переезжая с места на место, закончил свои дни на Урале. А потому для Гильгенберга, насильно оторванного от корней, лишенного родины и отчего дома, созданная им личная сфера, собственно, и была его единственным местом. И действительно, сфера, как ее понимает Слотердайк, — это окружающая каждую личность антропологическая оболочка. Одухотворенная, наполненная смыслом, она задает людям их положение в мире и одновременно от этого мира защищает.
Однако присмотримся к нанесенным на шар изображениям. Все они взяты из личных архивов поволжских немцев и из них лишь три принадлежали собственно Александру Гильгенбергу. Более того, все они являются групповыми — это фотографии семей, которые в своей совокупности воссоздают некогда существовавшую общность немцев Поволжья. И все эти люди разделили судьбу Гильгенберга, все они, насильно лишенные корней, обрели свое место в своей личной сферической оболочке. Так человеческий удел одного узнает себя в уделе миллиона. Так работа Тишкова, посвященная судьбе близкого ему человека, приобретает эпический смысл.
<…>При этом в обращении Тишкова к семейным альбомам можно усмотреть еще один возможный смысловой поворот. Зададимся вопросом: как оболочка наполняется духом и смыслом? Подобно сосуду, уверяет нас Слотердайк, она наполняется только извне. Прообразом здесь могут выступить отношения матери и ребенка, до его рождения связанных общим дыханием и кровообращением. Но и после рождения людям свойствен не только поиск изначального укрытия, но и попытки выйти за его пределы. А потому создать свою сферу и обрести в ней место — значит связать ее со сферами других и разделять свое место с другими. Как рассказывает нам Тишков, «после смерти жены Александр Гильгенберг остался один, и моя мать, потеряв к тому времени моего отца, стала для него опорой… Он умер дома, его могила рядом с могилой моих родителей. История его жизни — это тоже моя история». Так утрата близкого человека, с одной стороны, наносит личной сфере незаживающую травму, но, с другой, приводит к укреплению оболочки. Личная сфера наполняется духом и смыслом за счет отдаления и включения мертвых. Вот почему Леонид Тишков посвятил свою работу памяти Александра Давидовича Гильгенберга. Вот почему его творчество постоянно обращается к его семье и роду. Прожитые его родными и близкими жизни становятся частью его сферы, их судьбы — это и есть его место. Виктор МизианоВидео «КIайчу-юххие» может быть определено произведением-свидетельством. Работа воссоздает, а точнее, документирует реальное событие, в котором непосредственное участие принял и ее автор. Весной 2017 года он отвез свою бабушку Заяну Хасуеву на место, где некогда находилось село КIайчу-юххи, в котором она родилась, провела свое детство и откуда затем в 1944 году со всей семьей и односельчанами была депортирована в Казахстан. На экране показан проезд по высокогорной дороге, мы слышим рассказ Заяну, а потом видим и саму рассказчицу. Возвращаясь впервые на место своего рождения, узнавая знакомые места, она вспоминает прошлое, тяготы прожитой жизни. «Ничего не видно, — говорит она в конце фильма, — ни дома, ни человека, ни тех, кто здесь жил. Одни горы стоят!». Перед нами свидетельство — свидетельство человеческой трагедии, замалчиваемой трагедии целого народа.
Однако достоинство фильма Гайсумова не только в его пронзительной свидетельской силе. Работа отсылает нас к извечной, отмеченной еще в древней мифологии теме — теме возвращения, — и ставит философский вопрос: «Возможно ли возвращение домой?». И тут стоит обратить внимание, что в этой работе есть второй, наряду с Заяну Хасуевой, герой. Скупая изобразительная поэтика фильма строится на статичных продолжительных планах — длительного панорамно заснятого проезда машины по горному серпантину, длинных планов стоящей спиной к камере Хасуевой на фоне горной гряды — все они как бы воплощают идею длинного, затянувшегося на всю жизнь возвращения. Время, темпоральная длительность — это, собственно, и есть второй герой «КIайчу-юххие». Длительность же, как писал Анри Бергсон, будучи фактом человеческого опыта, неотторжима от памяти, в которой прошлое соприсутствует с настоящим.
<…>Более того, как считал французский мыслитель, через соотнесение минувшего с наличным память, собственно, и конституирует настоящее. Без памяти и прошлого нет движения времени, нет актуализации настоящего. Без прошлого настоящее было бы «туманным пятном», в котором не происходили бы никакие жизненные процессы. Иначе говоря, образу отчего дома, который мы в какой-то момент обречены оставить, суждено, постоянно возвращаясь, вступать в конфликт/диалог с местом/временем нашего актуального пребывания. Эта диалектика воспоминания и наличного позволяет нам давать определение настоящему, она питает наш жизненный опыт, приводит в действие становление нашей личности. Поэтому, как утверждал Жиль Делез, возвращение или, как говорил он вслед за Ницше, «вечное возвращение» есть не столько движение вспять, сколько движение вперед, т.е. «становление». Тем самым драматизм работы Гайсумова умножается. Ведь ее героиня, совершив на этот раз не воображаемое, а реальное возвращение домой поняла, что «ничего не осталось». И дело здесь не только в том, что дом ее был разрушен людьми и временем, а в том, что реальное место всегда не тождественно тому, каким оно живет в нашей памяти. Встреча с ним чревата травмой: отсутствие места останавливает время, останавливает индивидуацию и развитие. Чтобы время вновь пришло в движение, нужно покинуть свой дом, оставить обретенное место. «Пойдем, Асланбек, не могу я больше стоять, пойдем», — просит своего внука Заяну Хасуева. Виктор МизианоДействие фильма «POTOM» разворачивается в двух местах города Лиепая. Первое из них — это закрытое помещение, обветшалое, заброшенное, как кажется, нежилое. Некогда это был Дом морского собрания русского военного флота, затем туберкулезный госпиталь, а позднее он стал госпиталем военным. Прошедшая через это пространство история оставила в нем свои следы, а потому оно по праву может считаться местом.
Можно и уточнить: в данном случае мы имеем дело со вполне определенным типом места. По сути, перед нами руина — мотив, имеющий богатую традицию в европейской культуре. Начиная с романтиков руина воспринималась свидетельством текучести времени, утраты того, что когда-то казалось неотъемлемой частью настоящего. Будучи живым напоминанием о безмерности времени и преходящести сущего, руина как зрелище относится к эстетической категории возвышенного, как и другие явления, превышающие своим масштабом человеческое измерение. К ним относится еще один излюбленный романтиками мотив — безбрежная уходящая к горизонту морская стихия. Берег лиепайского залива — это, собственно, и есть второе место, в котором протекает действие фильма. И встреча этих двух мотивов в работе Эпнере закономерна — ведь руина есть не что иное, как воплощение всесилия природы, ее реванша за попытки человека увековечить свои деяния.
Неохватность истории и безмерность природы — с этими двумя началами и сталкивается главный герой фильма, отставной офицер, давшей присягу стране, которой уже нет. И хотя то, что давало смысл его прошлой жизни, кануло в лету, стало руиной, он хранит ему верность: он носит мундир несуществующей армии, подчиняет свою жизнь военному распорядку дня. Можно сказать, что перед нами человек-руина, не вписавшийся в современность рудимент прошлого.
<…>Есть у героя фильма и реальный прототип — это отец художницы, советский морской офицер, оставшийся в Литве, где он живет — по словам дочери — «отложенной жизнью». Какие бы перспективы и возможности ни открывались ему в новой жизни, он склонен их откладывать: «Я сделаю это позднее… потом…». И все же руина наглядно свидетельствует, что некий остаток прошлого остался в современности, хоть и в неполном и не подлинном виде. Очевидно, что неукротимая сила природы внесла изменения в то, каким некогда создал это строение человек, но в результате она создала новую форму, в которой формообразующая воля человека сосуществует с безустанным становлением природы. Так руина — об этом писали и Гегель, и Зиммель — возвращает человека к источнику его энергии, к ядру его «я», в котором природа и разум обретают общие корни. Вот почему герой Иевы Эпнере, с одной стороны, мобилизуя свое тело и дух, стоит на страже своего места, а с другой — посвящает себя тому, что в прежней жизни вряд ли входило в его привычки, — созерцанию морского горизонта. Виктор МизианоС каждой станцией наш все длинней караван./ Выселенцев везут в Казахстан./ За вагоном вагон, нам уже не помочь/ Ночь и день, день да ночь, сутки прочь.
Ты услышишь мой крик из поселка Чилик./ Эта песня — мой след, а меня больше нет./ Безнадежный тупик. Одинокий старик./ Тихий призрак поселка Чилик.
Все же надо быть честным, хотя бы с собой —/ Я не знаю, вернусь ли домой./ Мы останемся здесь, наше дело — табак,/ Ураган покрыл наш очаг.
Ты услышишь мой крик из поселка Чилик./ Эта песня — мой след, а меня больше нет./ Безысходный тупик. Обреченный старик./ Белый призрак поселка Чилик.
Николай Карабинович
«В 1949 году, — объясняет Николай Карабинович, — моего прадеда, грека, репрессировали и депортировали в Казахстан. Об этом я слышал много рассказов от своего отца, который никогда не видел его и лишь по рассказам матери знал эту историю. Отец всегда хотел поехать на могилу прадеда, и я решил осуществить это вместе с ним». Таковы биографические обстоятельства, призвавшие к жизни эту работу, в то время как ее создание стало событием в биографии ее автора — событием, которое, в свою очередь, стало частью его работы.
Первым шагом здесь стало сотрудничество с живущим в Берлине музыкантом Юрием Гурджи, которого художник попросил сочинить песню в своеобразном стиле рембетика, сложившемся в Греции в 20–30-х годах ХХ века, после так называемой Малоазийской катастрофы (геноцида греков Понта и Анатолии). А затем он отправился в путешествие в Казахстан, в село Шелек (Чилик), в котором со времен Второй мировой войны проживали депортированные греки, чеченцы и немцы. На его окраине на одиноко стоящем столбе он установил громкоговоритель, из которого посреди безмолвной степи зазвучала песня Юрия Гуржи.
Своему произведению Карабинович дал значимое название, восходящее к Ветхому завету, к 3-й Книге царств. В ней «голос тонкой тишины» явился пророку Илье на горе Синай в виде «веяния легкого ветерка», что, разумеется, есть не что иное как глас Бога, говорившего с ним в молчании. Однако этому событию предшествовали три других — сначала был ветер невиданной силы, «раздирающий горы и сокрушающий скалы», затем все сотрясающее землетрясение, а начало всему положил всепожирающий пожар.
<…>Все эти три божественных явления — как уверяют теологи — соотносимы с тремя ипостасями духовного опыта, где ветер суть волевая устремленность к божественному снисхождению, землетрясение — дрожь и трепет его ожидания, а огонь воплощает собой пламя любви, что есть сокровенная суть божественного. Вся эта теологическая конструкция замыкает в единый круг катастрофы, тяжкие испытания, страсти и просветление, где последнее невозможно без трех предыдущих ипостасей. Такова теология события и его структуры. Событие, однако, — явление экстраординарное. Свершившись однажды в жизни человека или человечества, оно надолго потом определяет собой дальнейшее течение жизни, становясь опорной точкой, относительно которой мы определяем себя в становлении настоящего. Великие революции или грандиозные драмы (Холокост, депортации, геноцид) — сохраняя им верность, мы уберегаем их от забвения, сохраняем способность извлекать уроки. При этом, как указано в примечании к русскоязычному переводу статьи Алена Бадью «Что такое любовь?», «верность — это одновременно и верность событию, и верность себе как субъекту — если субъект прекращает запрашивать ситуацию, он исчезает» (перевод с французского С. Ермакова). Поэтому «голос тонкой тишины», то есть голос молчания может услышать лишь тот, кто «достиг молчания внутри себя». Поэтому верность событию предполагает духовную дисциплину и внешние ритуалы. Вот почему Николай Карабинович совершил паломничество в село Чилик и оставил там своей след — след верности месту и свершившемуся там событию. Виктор МизианоМотив иглы вошел в творчество Кимсуджи уже в самых первых ее произведениях и имеет для нее очень личный, сокровенный характер. В детстве вместе с матерью она часто посвящала время вышиванию постельных покрывал, и этот опыт стал для нее воплощением родственной совместности, как и примером практики, в которой в нераздельном единстве пребывают мысль, действия и чувства. Она варьировала этот мотив, как и близкий ему мотив ткани, в самых разных своих работах. И если ткань у нее всегда носит характер все разделяющей и все покрывающей субстанции, то игла, напротив, — это нечто, что соединяет. «Без иглы — утверждает художница — не было бы ткани,
без индивидумов — не было бы ткани общества».
Именно эти два образа — индивидуум и социальная ткань — представлены в ее легендарной видеоинсталляции «Женщина-игла». Снималась эта работа в самых разных местах современного глобального мира, в его самых густонаселенных мегаполисах — Шанхае, Дели, Каире, Мехико, Лондоне, Лагосе и др. И всегда в ней на всех образующих инсталляцию экранах мы видим со спины саму художницу, стоящую посреди пребывающей в текучем движении мультиэтничной толпы.
<…>Многое в этой работе предзадано близкой Кимсудже восточной философией и буддийским мировоззрением. Погруженная в медитацию среди многоликого и неохватного в своей динамике мира, она очищает сознание, достигая таким образом состояния покоя и просветления. «Я не верю в постоянство, — рассказывает художница, — а верю в состояние постоянного изменения. Все пребывает в процессе и все — включая мое собственное тело — лишено устойчивости. В моих ранних произведениях процесс вышивания понимался как путь в прошлое, настоящие и будущее, как внутреннее путешествие через пространство и время. Перформанс «Женщина-игла» приобщил меня к пробуждающему опыту внутреннего путешествия через физическое обретение/лишение собственного тела…». И еще одно важное признание: «Пока я стояла… мое сознание и мой взгляд приобщились к реальности огромного универсума. Я созерцала белый свет за дальним горизонтом, то были потоки идущих ко мне и проходящих мимо меня людей. Так мощная сила просветления позволила мне открыться жителям самых многолюдных городов мира». Подобная творческая позиция делает Кимсуджу среди художников ее поколения фигурой в какой-то мере уникальной. Она вошла в искусство в конце 1980-х, когда на повестку дня встала проблема идентичности, когда перед лицом развернувшейся глобализации казалось важным отстаивать права меньшинств и право на различия. При этом проблематика эта не была для художницы чем-то далеким и умозрительным. Родившись в Южной Корее, она переехала в Нью-Йорк, познав таким образом эмигрантский опыт, а в своем искусстве настойчиво обращалась к связывающим ее с родиной реалиям. И все же она использовала эти мотивы не с тем, что манифестировать укорененность в месте своего рождения, а просто потому, что они ей были близки и привычны. В остальном же Кимсуджа говорит о том, что твое место там, где ты есть. Ты как игла, вонзаясь в любую точку современного мира, делаешь это место своим. И в то же самое время она говорит о том, что, очистив сознание, остранясь от окружающей тебя конкретной реальности, ты начинаешь воспринимать мир в его целостности. Весь он становится твоим местом. Творчество Кимсуджи не про малую родину и не про апологию различий, а про универсальность места и про единство человечества. Виктор МизианоНовости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.