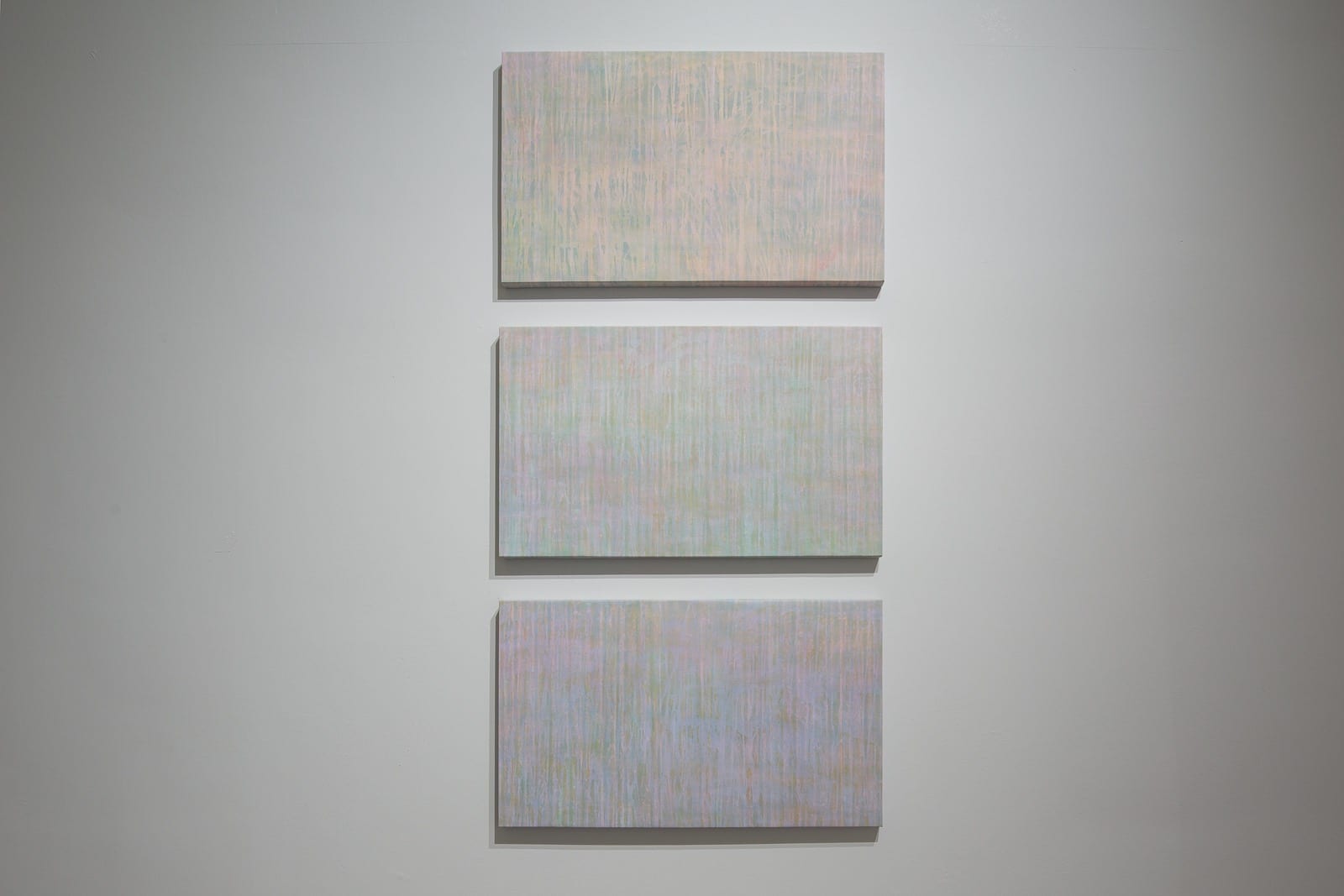Сегодняшняя позиция полностью противоположна любой интернациональной логике
Художник Иван Новиков, работающий с темами Другого, колониализма и неоколониализма, поговорил с историком и публицистом Ильёй Будрайтскисом об интернационализме, наследии холодной войны и войнах современных.
.
Материал проиллюстрирован видами выставки Ивана Новикова «О двух концах», которая прошла в галерее Pop/off/art в сентябре–октябре 2018 года. Фото: Александр Минченко
От автора:
Последние пару лет я грезил мыслью сделать проект о «невидимой» стороне афганской и вьетнамской войн. Сейчас, кажущаяся истончившейся донельзя, идея интернационализма практически исчезла из общественной дискусси. Но именно этот хребет идеологии советских колониальных войн кажется мне удивительно неотрефлексированным в искусстве. Осенью 2017 года у меня сформировалось достаточно чёткое видение выставки, которая должна была своим концептуальным устройством препарировать социально-исторический феномен «интернационального долга».
Охваченный этим замыслом, я записывал интервью с ветеранами-интернационалистами, обсуждал эти события с исследователями и очевидцами. И в один момент, по совершенно другому поводу, заговорил о военной истории с Ильёй Будрайтскисом. Историк, художник, публицист и критик — он с интересом откликнулся на мои суждения и высказал очень ценные замечания о проекте.
В течении 2018 года, пока я работал над выставкой, получившей название «О двух концах» (намёк на опасную неоднозначность идеи интернационализма) мне удалось познакомиться с рядом источников о советском империализме. Но, как оказалось, большинство из них было написано с условно «правых» политических позиций. Даже сами ветераны, воевавшие в Афганистане, Йемене, Анголе и Вьетнаме сегодня в большинстве высказываются скептически об идее «интернационального долга».
Этот парадокс навёл меня на мысль о необходимости обсудить военно-идеологическое наследие СССР с Ильей Будрайтскисом, человеком ярко очерченных «левых» взглядов. Саму беседу удалось организовать только в середине осени 2018, по окончании моей выставки. Правда, это позволило нам поговорить уже в более спокойном режиме, по возможности исключив мою художническую аффектацию проектом.
Иван Новиков: Давно хотел с тобой побеседовать об отношениях истории с настоящим, а именно о сегодняшнем понимании феномена интернационального долга, интернационализма. У меня давно возник интерес к этой проблематике, видимо в контексте работы с постсоветской историей в искусстве. И, конечно, это связано с моими художественными проектами, в том числе с последним — «О двух концах». С другой стороны, сама социополитическая ситуация вокруг вынуждает задуматься о, казалось бы, давно минувших событиях. В этом году исполняется 50 лет с трагических событий операции «Дунай», то есть вторжения в Чехословакию. Но, как мы знаем, на ввод войск последовал «ответ» диссидентского движения — знаменитая «демонстрация семерых» на Красной площади. Мой вопрос связан в том числе с делом Олега Сенцова, который держал очень продолжительную голодовку. И конечно, с продолжающимся заключением Александра Кольченко. На твой взгляд, как поменялось за прошедшие полвека представление об общественной ответственности, гражданском долге в нашем обществе?
Илья Будрайтскис: Мне кажется довольно проблематичным разговор о диссидентском движении и такой его важной манифестации, как демонстрация на Красной площади в 1968 году, в терминах «гражданского долга». Ведь это подразумевает представление о гражданском обществе, общем благе, о том, что человек совершает определенный выбор политически, исходя из обстоятельств и существующего баланса сил. Такой выбор не является автономным, и в этом его различие с позицией моральной ответственности, которая являлась ключевой для диссидентского движения и, в определенном смысле, противостояла политическому выбору. Люди, принимавшие участие в диссидентском движении, по крайней мере в том виде, в котором оно оформилось с конца 1960-ых годов, именно как правозащитное движение, исходили из морального, личного долга. Они ставили вопрос так: что я могу сделать в этих условиях лжи и несвободы для того, чтобы спасти себя как личность и сохранить самоуважение? Как возвысить само понятие человека над той моделью государства и общества, которая перманентно стремится втоптать его в грязь?
Для того, чтобы практически ответить на этот вопрос, необходимо постоянно преодолевать власть обстоятельств, сохраняя чистоту средств при безразличии к цели. Т.е. для того, чтобы располагать собой и действовать так, как подсказывает тебе совесть, нельзя ставить себе какие-то конкретно достижимые цели. Потому что как только мы впускаем такие цели в пространство принятия собственного решения, то сразу же начинаем искажать средства, меняя их для достижения конъюнктурных задач. Мы начинаем путь компромисса, на котором неизбежно потеряем самих себя. Моральная сила правозащитного движения во многом определялась именно этим безразличием к цели. Оно не пытается предложить проекты радикального изменения общества в целом, сосредотачиваясь лишь на том, что конкретный человек может сделать в ситуации несвободы чтобы сохранить свою свободу.
В этом смысле, вся та кампания, которая велась в поддержку Сенцова на протяжении месяцев его голодовки, в целом наследовала правозащитной моральной установке. Она не озвучивала никаких рациональных аргументов для того, чтобы предложить поддержать Сенцова большинству населения. Хорошие, честные люди должны были поддержать Сенцова лишь для того, чтобы не чувствовать себя подонками и предателями. В этом воспроизводстве правозащитной установки, безусловно, много возвышенного и пробуждающего эмпатию. Однако из нее вытекает также четкое и необходимое противопоставление себя обществу: пока большинство молчит и выживает в ситуации моральной катастрофы, мы высоко поднимаем знамя нашей собственной личности и внутренней свободы. Подразумевается, что в этом безнадежном положении своим личным примером мы обозначаем возможность надежды. Но эта надежда всегда является результатом исключительно индивидуального решения, а не коллективного действия.
В такой дуалистической картине мира общество всегда представляется как нечто гомогенное и лишенное серьезных внутренних конфликтов. Предполагается, что эта ситуация безнадежных обстоятельств создаётся совместно обществом и властью, в то время как лишь немногие могут бросить всему этому личный вызов. Все это в целом представляет, на мой взгляд, мотив, глубоко укоренный в советском и постсоветском сознании, в нашей политической культуре, который во многом препятствует серьезным общественным движениям. Он создаёт дистанцию между интеллектуалами и обществом и выступает как элемент постоянной дискредитации любого разговора об общих интересах.
ИН: Эта ситуация предполагаемой «расколотости» — морального превосходства условных диссидентов и некоторого большинства — не повторяет ли она ситуацию, которую Александр Эткинд описывал как раскол между «бородатыми и безбородыми»? Эта теоретическая модель предполагает, что есть некоторая образованная часть общества, которая не носит волос на лице, но имеет какие-то моральные вопросы. И есть живущая в грязи, «немытая Россия», которая носит бороды и не задумывается о «высоком». Естественно, он писал это по отношению к Российской империи, но уместно ли сделать перенос на ту ситуацию, которую описываешь ты?
ИБ: Очевидно, что какая-то культурная матрица воспроизводится. Хотя она и накладывается на условия, сильно отличные от обстоятельств 18 или 19 века, когда образованное меньшинство, относившиеся к привилегированным классам, начинает всерьез воспринимать традицию Просвещения, перенесенную на русскую почву. Еще Ключевский описывал этот процесс в нескольких этапах: в конце 18 века образованные русские дворяне начинают читать книги, наслаждаться игрой европейского ума, но совершенно не связывают это с рефлексией своего собственного социального положения. Просвещение выглядит как исключительно интеллектуальная деятельность, забава, не предполагающая ответственности. Затем единицы из этих образованных людей усваивают связь между разумом и долгом — что немедленно приводит их к трагическим выводам о невыносимости своего существования в этом расщепленном состоянии. Таким человеком был, например, Александр Радищев. В 19 веке происходит постепенная политическая трансформация этого морального вызова Просвещения. Для народников единство морали и политики уже становится ключевым программным моментом. Главное — это достоинство человеческой личности, которая создаётся и обнаруживает себя только в коллективной борьбе. Эта личность не автономна, но необходимо должна в себя вмещать все противоречия существующих отношений. И этот поворот связан с общественными изменениями: с тем, что меняется классовая структура общества, образование распространяется на другие классы. За дворянами следуют разночинцы, а к началу 20 века появляются небольшие группы рабочих, которые стремятся к знанию о самих себе, анализу той позиции, в которой они находятся и вытекающего из этого анализа необходимости разрыва со своим жалким местом в обществе.
Если говорить о тех трансформациях, которые произошли в 20 веке, то они стали результатом советской модернизации. Ее итог — существование современного российского общества, в котором совсем таких «бородатых людей», полностью лишенных доступа к знаниям и неспособного к рефлексии своего положения, уже нет.
ИН: Либо они исключаются из поля зрения общества, как в некоторых регионах России. Как со староверами или другими, как кажется, маргинальными религиозными группами.
ИБ: Да, но маргинальность которых отчасти является результатом их собственного выбора. Старообрядцы являются маргинальными или непросвещенными потому что они на программном уровне отрицают Просвещение, а не потому, что они не включены в отношения Просвещения. Поэтому можно сказать, что это разделение на «бородатых и безбородых» является анахроничным в том смысле, что оно переносит структуры сознания и восприятия на общество, которое им совершенно не соответствует.
ИН: С 2014 года активизировалась имперская политика России на глобальном уровне: вновь открылись военные базы во Вьетнаме, на Кубе, в Сирии. Из последних новостей мы узнаем, что какие-то российские войска перебрасываются в восточную Ливию, чтобы оказать поддержку одной из сторон гражданской войны. И, конечно, это все происходит в контексте войны на востоке Украины, крымских событий. Известно, что отечественный Генштаб руководствуется «доктриной Герасимова», концепцией тотальной прокси-войны. Насколько, на твой взгляд, этот процесс уместно сравнивать с советской международной политикой, в том числе с доктриной ограниченного суверенитета, также известной как «доктрина Брежнева»? Да и в целом, сегодня российская государственная политика на твой взгляд — это продолжение, развитие или, наоборот, антитеза к советскому империалистическому проекту?
ИБ: Ключевым в словосочетании «советский проект» является слово «проект». Советская внешняя политика не была инверсией реалистической политики, которая просто исходит из реальности существования разных государств, которые борются между собой за территории, влияние, ресурсы и т.д. Советская внешняя политика, даже в сталинские годы, исходила из некой интернациональной перспективы, из того, что она представляет другой тип общественных отношений. Однако в сталинский период экспансия этих общественных отношений подразумевалась уже не сколько как результат самоорганизации угнетенных классов других стран, но как результат военного вмешательства извне. Эта та политика, которую некоторые называют «революционным империализмом».
В 1960-е годы происходит окончательный пересмотр этой политики, которая сменяется идеей мирного сосуществования. Она исходила из того, что есть две системы, два способа производства, которые, безусловно, находятся между собой в неком противоречии. Но это противоречие является противоречием отложенным, опрокинутым в какую-то длительную историческую перспективу. Кроме того, оно сильно осложняется существованием оружия массового уничтожения, которое ставит вопрос о сохранении мира и недопущении глобальной войны в качестве более приоритетной цели, чем достижение победы одного из проектов, социалистического или капиталистического.
Идеология разрядки в 1970-е годы, которая была в равной степени усвоена и Советским Союзом, и Западом, исходила из представления о том, что мир более или менее разделен на части. И в рамках каждой зоны влияния существует приоритетное право центральной страны на наведение порядка и удержание власти. Именно поэтому, например, события в Чехословакии не стали в полной мере интернациональным значимым событием, так как принадлежность этой страны к восточному блоку не ставилась под сомнение. Запад не предпринимал никаких серьезных действий для того, чтобы оспорить легитимность советских действий в Чехословакии. В свою очередь, Советский Союз не рассматривал серьёзные возможности победы коммунистических партий в Италии или Франции (где они были в 1960–70-е очень сильны), так как это нарушило бы существующий баланс сил и подтолкнуло этот хрупкий мир к ситуации более менее открытого военного столкновения.
Эта смена парадигмы во внешней политике способствовала девальвации самого понятия интернационального долга. Т.е. если себе представить, как мир был поделен после Второй Мировой войны, как Европа была поделена после нее, то с точки зрения действительного революционного потенциала, это разделение было абсолютно не справедливым. Польша или Венгрия, где большинство местного населения не принимали советский социализм, а левые силы были достаточно слабы, тем не менее оказались внутри социалистического блока и были принуждены к строительству социализма. В то время как Италия или Греция, где левые были очень сильны и вопрос о возможности социалистических преобразований стоял в повестке дня, согласно Ялтинскому соглашению, оказались по другую сторону железного занавеса. Таким образом, в самой конструкции Ялтинской системы интернационализм уже был искажен и девальвирован.
Сегодняшняя российская внешняя политика, конечно, по инерции повторяет какие-то жесты советской внешнеполитической традиции, усиливая присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии или Африке. Тем не менее, конечно, парадигма российской современной внешней политики является абсолютно реалистической. Кремль вполне принимает картину мира, в которой все государства находятся в естественном конфликте интересов, за которым постоянно маячит возможность глобальной войны. Для того, чтобы ее не допустить, нужно постоянно искать точки равновесия. Поскольку в мире после окончания Холодной войны утвердилась некая диспропорция, эти точки равновесия были потеряны, и мир начал погружаться в хаос. Россия должна предотвратить этот хаос, создавая новую возможность равновесия. Это основная идея путинской внешней политики, которую президент неоднократно проговаривал: современный миропорядок становится все более непредсказуемым и приближается к возможности войны, так как в нем есть лишь один суверен. Необходимо воссоздать оркестр суверенитетов, который сможет создать более или менее прочную и сбалансированную новую систему международной безопасности.
ИН: Получается, что это является продолжением и развитием советской внешней политики?
ИБ: С одной стороны — да, поскольку наследует элемент реализма, который уже имплицитно присутствовал в поздне-советской политике разрядки. А с другой стороны — нет, потому что советская внешняя политика никогда не была полностью реалистической. Она исходила из того, что государства не обладают одинаковой сущностью: есть социалистические государства, есть капиталистические. Это противостояние никогда не сводится просто к голой, витальной жажде власти каждого государства, оно в конечном счете исходит из различной классовой природы. Поэтому, несмотря на все зигзаги советской внешней политики, в ее основе лежало представление о том, что ее естественными союзниками являются все освободительно-прогрессивные и антиколониальные движения. В свою очередь все эти движения, так или иначе, видели в Советском Союзе точку опоры. Т.е. когда в какой-то стране начиналось массовое движение угнетенных, оно в той или иной степени могло рассчитывать на Советский Союз. Это движение могло к нему апеллировать, и Советский Союз как-то должен был реагировать на этот призыв.
ИН: В таком случае, как ты можешь охарактеризовать советскую концепцию «интернационального долга»? Она сегодня, естественно, не существует в том виде, в котором она была в Советском Союзе, но тем не менее выдвигаются сходные по «функционалу» идеологические конструкции, как то: «русский мир», «защита русского языка». И используется примерно в тех же случаях...
ИБ: Да, но концепция «русского мира», как мы видим, оказалась достаточно ситуативной. Нельзя сказать, что идея «русского мира» была устойчивым и ключевым элементом российской внешней политики. Более того, до сих вообще не вполне ясно, что имеется ввиду: если «русский мир» это некое культурное единство, которое исчерпывается логикой гибридной войны в описании генерала Герасимова, где культура или интеллектуальная сфера сводится лишь к качеству одного из полей битвы одного и того же глобального столкновения? Или «русский мир» имеет смысл, выходящей за рамки внешнеполитического противостояния? Наконец, как определить, где именно, в какой точке и какой мере «русский мир» нуждается в защите со стороны России?
Пока практическое приложение этой неочевидной концепции произошло только в Украине; однако если продолжать последовательно развивать идею «русского мира», то она должна была бы вылиться в тотальный пересмотр советских границ практически по всем направлениям. Очевидно, что Россия себе никогда не ставила задачи радикального пересмотра постсоветских границ. Кроме того, такой пересмотр означал бы, что в каждой из несостоявшихся и нелегитимных с точки зрения России постсоветских стран необходимо было бы найти организованную часть общества, которая в этот «русский мир» была бы включена. Т.е. для того, чтобы призвать Россию, «русский мир» должен быть уже оформлен внутри каждого из постсоветских государств, где имеется значительное культурное или этническое русское меньшинство. Ни в какой из постсоветских республик такого организованного меньшинства нет, как его и не было в Украине. И совершенно не случайно, потому что вся предшествующая стратегия отношений на постсоветском пространстве, которую использовала Россия, строилась на соглашениях с местными элитами, а не на попытках вырастить некую контр-элиту, принадлежащую «русскому миру». Агрессии в Украине не предшествовало никакой долговременной стратегии создания «русского мира» — политических партий, культурных институтов и т.п. Наоборот, сама идея «русского мира» родилась уже после начала агрессии, чтобы ретроспективно найти ей оправдания.
ИН: Сейчас хорошо известно, что во времена войны в Афганистане ввод советских войск обуславливался интернациональным долгом. Можно ли привести параллель с такой же «оправдательной» политикой, которую проводил советский союз, объясняя интернациональным долгом отправку солдат, и современной реалией войны на Украине на момент 2014 года? Когда придумывается какой-то идеологический конструкт будь то Новороссия или русский мир — не важно, и он используется как некоторое оправдание для очевидно ужасающих действий.
ИБ: Как известно, aфганская война была катастрофической и во многом стала причиной коллапса Советского Союза, поэтому российское правительство, естественно, стремится избежать любых прямых аналогий. И в Украине, и в Сирии не используется лексика интернационального долга и вообще война не объявляется формально. Напротив, постоянно подчеркивается краткосрочный характер операций, не имеющий ничего общего с массовым вводом войск по модели Афганистана. Конечно, травма афганской войны еще присутствует в обществе — прежде всего для того поколения, которое так или иначе было ей затронуто. Мы видим, что операция в Сирии в целом не находит массовой поддержки и не вызывает патриотического энтузиазма.
Единственное, что с этой операцией пока примиряет — ее постоянно декларируемый ограниченный и временный характер (к настоящему моменту Путин три или четыре раза заявлял о завершении этой операции или некой ее основной фазы). Второй важной особенностью Сирийской войны со стороны России является постоянная презентация ее как парада новейших технологий. Этот момент сравним с тем, как в начале 1990-х американцам, еще не переварившим травму вьетнамского поражения, была представлена война в Заливе. Эта были военные действия нового типа, в которых с американской стороны как бы вообще не было жертв, так как их основными участниками были роботы. Американцам была представлена эта война как совершенно иной тип боевых действий, где нет жертв среди американцев, а основными участниками не являются люди. Это абсолютно безопасная война, лишенная плоти и крови, а солидарность с действиями своей страны в такой войне подобна солидарности герою какой-то компьютерной игры. В сирийской операции со стороны России с самого начала преобладала эта нота: торжество русских беспилотников, «умных ракет», которое одновременно демонстрируют конкурентные преимущества страны в области вооружений, и показывает силу национального духа. Т.е. для того, чтобы сегодняшнюю Россию примирить с войной на дальней и культурно и религиозно чуждой территории, необходимо постоянно подчеркивать ее иллюзорный характер.
ИН: Если говорить о репрезентации сирийской войны в общественном сознании, то возникает парадоксальная ситуация. День ото дня военные потери все увеличиваются, о чем мы узнаем из самых разных источников. Сирийские правительственные войска сбивают, пусть и по ошибке, самолет с нашими военнослужащими, также регулярно приходят сообщения о стальных гробах, об этих «грузах-200». И одновременно происходит эта дикая история, когда погибли наши журналисты в ЦАР, причем во время расследования российского военного присутствия в Африке. Но при этом массовых антивоенных движений и митингов почти не происходит. Как ты считаешь, может ли война в Сирии сегодня вызвать сходную общественную реакцию, как и афганская война, от которой правительство открещивается, или вьетнамская, если смотреть на США, когда это привело к серьезным антивоенным высказываниям и демонстрациям?
ИБ: Конечно, современная война сильно отличается от афганской или вьетнамской. Кроме того, совершенствуется способ манипуляции информацией. Мне кажется, что российское правительство сможет довольно долго и успешно скрывать количество жертв и искажать в целом картину происходящего. И если в России произойдёт некое политическое оживление, я не думаю, что внешние военные конфликты станут его главным триггером. Безусловно, они в той или иной степени будут затронуты, тем более, когда появится интерес к ретроспективному анализу действий существующего российского режима. В этот момент, безусловно, в обществе возникнет интерес к тому, что в действительности происходило на Донбассе, в Сирии, в ЦАР и т.д.
ИН: В конце нашей беседы, я бы хотел узнать твою точку зрения на феномен «интернационализма» в сегодняшнем мире. Наблюдаешь ли эту повестку в современных политических дискурсах? Насколько возможно сейчас говорить об интернациональном долге как об актуальном идеологическом конструкте? Или теперь мы пребываем в совсем иной реальности, где использование этого термина неуместно?
ИБ: В своем основании интернационализм напрямую связан с идеей о миссии рабочего класса. Т.е. рабочие — это те, кто в прямом материальном смысле лишен отечества, и попытка включить их в некое единство национального государства является трюком, идеологической уловкой, которая противопоставляет братьев по классу друг другу. Поэтому этой иллюзорной национальной солидарности необходимо сопоставить интернациональную солидарность угнетенных, которой не противостоит космополитическое единство правящего класса и капитала, у которого на самом деле тоже нет отечества. Т.е. отечество — это идеологическая фигура, которая привязывает угнетенных к конкретному инструментальному интересу угнетателей. Поэтому идея интернационализма всегда была напрямую связана с существованием организованного рабочего движения.
Интернационализм никогда не являлся чистой этической позицией: вопрос не в том, что я лично являюсь интернационалистом, но в том, что моя классовая позиция, мое место, которому я принадлежу структурно, диктует мне интернациональную солидарность как ключевое условие политической борьбы за эмансипацию. Сегодня же мы видим вместо международного движения угнетенных разрозненные левые силы, которые на национальном уровне борются за спасение элементов исчезающего социального государства. Можно говорить о том, что эти левые, в их нынешнем состоянии, теряют, если уже не полностью потеряли, эту интернационалистическую перспективу. И с этим связаны успехи путинской пропаганды именно в отношении западных левых, среди которых есть немало симпатизантов сегодняшней России. Симпатия эта строится не на иллюзиях в отношении того, что в России они имеют социальный порядок, альтернативный капитализму, а на том, что враг моего врага — мой друг. Если сегодня Россия противопоставляет себя американскому империализму, то мой конкретный интерес, как американского левого, воспринимать ее как естественного союзника в борьбе против главного врага — своего собственного правительства. Эта позиция полностью противоположна любой интернациональной логике.
Более того, левые обвиняют в абстрактном интернационализме либеральные или консервативные силы, критикующие путинизм с нормативной точки зрения — за нарушение прав человека, подавление демократии и тп. Левые говорят: «Прекратите ваши моральные спекуляции, то, что происходит в России — ее суверенное дело. Не нужно вмешиваться в дела других стран и прикрывать универсалистской риторикой свои империалистические амбиции». Например, когда недавно в Европарламенте обсуждалась резолюция в поддержку Сенцова, против нее из «антиимпериалистических» соображений проголосовали практически все левые депутаты. Этот акт был очень серьезной демонстрацией отказа от интернациональной перспективы, в которой не-гомогенность российского общества вообще не принимается во внимание. Мотив интернациональной солидарности с политическими заключенными, с угнетенными других стран, полностью сменяется узким взглядом из национальной перспективы.
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.