Физкультура в искусстве
Физкультурные практики, различные физические упражнения и медитации всё активнее проникают на территорию выставочных площадок. Если раньше зрители в основном смотрели на образы атлетичных тел или исполняемые ими перформансы, то теперь таким телом становится и тело самого зрителя — в ситуации уже не зрительства, а телесного аффекта. Как в истоках эстетики у Платона имели одинаковую важность и гимнастические, и мусические искусства. Специально для aroundart.org Егор Софронов модерировал дискуссию об этой новой тенденции.
.
Участники: Елена Ищенко, критик, редакторка и соосновательница aroundart.org, кураторка ЦСИ «Типография» в Краснодаре; Лена Клабукова, московская критик и художница, член редакции aroundart.org; Анна Козонина, танцевальная критик, базирующаяся в Санкт-Петербурге; Оля Сосновская, художница, кураторка и эссеистка из Минска.
Егор Софронов: Предлогом к данной корреспонденции стал обмен репликами. Дружественная критик искусства меня спросила, где брать энергию для концентрации. Я ответил, что источник — в физкультуре, и что классно записаться в спортзал. Выяснилось, что ремарка была воспринята с тревогой; собеседница ощутила в ней упрёк и направленную на комфортный себе ритм микроагрессию.
Чувствуя себя виноватым и ища способа смягчить впечатление, я нервно оправдывался, затем размышлял. Размышления привели к идее обозреть, как похожие озабоченности о телесности и о том, что Чарлз Дарвин называл приспособленностью (fitness), становятся все более популярными в искусстве: физические упражнения, социальные каналы и пространства (спортзал) их воспроизводства. Проходящие под новой рубрикой «телесные и духовные практики» — йога, дыхание, качалка, единоборства, медитации, пробежки и прочие всевозможные вариации современного атлетизма — становятся не просто темой или картинкой в искусстве, но служат источниками методологий. Они не только имитируют внешнюю форму физкультзанятий, но и преображают опыт рецепции искусства, делая его взаимоучастным, коллективным и основанным на инструкции.
Я бы противопоставил простую образность атлетизма, которая стала тематизироваться в начале десятилетия, его перформативному воплощению. Если в 2013-м году один из пионеров нью-йоркского постинтернета Брэд Тромел диагностировал иконичность «атлетической эстетики» для преобразования в виральные картинки и галерейное искусство[1], то к 2018-му взаимопроникновение этой атлетической эстетики с перформативными и взаимодейственными подходами создало как будто новый диспозитив. Он то ли по-неоавангардистски стирает границу жизни и искусства, то ли симптоматизирует и иронично воспроизводит пути приспособиться и выжить телу в неолиберализме. Кульминацией иконичного подхода можно назвать «Плановое устаревание» (2016) — выставку в тренажерке, курированную Александром Буренковым и снискавшую российскую госпремию. А перформативность атлетики будет диалектическим развитием иконичного, чисто ретинального подхода.
Вышеупомянутый обмен репликами проходил в Минске на событиях «Работай больше! Отдыхай больше» (далее РБ!ОБ!) — третьего ежегодного проекта четырех кураторов из Минса (Алексей Борисенок, Оля Сосновская, группировка eefff [Дина Жук, Николай Спесивцев]), который был насыщен событиями вроде «коммунистической рейв-йоги» стокгольмского критика Фриды Сандстрём (лекция «Вторжение. Дискуссия с элементами хореографии» об истоках современного танца и их политических и эмансипаторных значениях), ночного паркура от лондонского дуэта Алисы Олевой и Тимофея Максименко («Прогулка сквозь») и лежачего рейва от санкт-петербургского коллектива «ниичегоделать», сопровождавшегося дискуссией — ASMR-шепотом — о пост-трудовом обществе. Даже член редакции aroundart.org Лена Клабукова проводила медитативный сеанс «Би вотер май френд» («Будь водой, мой друг»), совмещавший гимнастические инструкции и психологическое внушение — и который проходил в характерной локации, танцевальной студии/зале для йоги с размещением участников на ковриках.
Подобные подходы не являются сигнатурой передового кураторского подполья из Минска: московский художник, славящийся своими инсталляциями, Кирилл Савченков начиная с прошлого года в «OSA/AG» и затем в «Логистике вненаходимости» (2018) в ММСИ создает сеансы, называемые им «перформативные эссе», сочетающие концентрацию из айкидо, дыхательные упражнения и частичные реинактменты взаимодейственных работ позднесоветского неоавангарда, сопровождающиеся речью нанятых исполнителей. Его ученица по школе Родченко Софа Скидан, помимо искусства являющаяся инструктором хатха-йоги, в своей первой персональной выставке проводила занятие йогой с одновременной лекцией (от постгуманистской философки Кати Никитиной с целью популяризировать идеи Донны Харауэй).
В общем, не вдаваясь излишне в перечисления и не пытаясь в настоящий момент найти некоего первоначального пионера, опробовавшего этот чрезвычайно интересный метод, я наблюдаю пересекающую национальные границы, местные сцены и их худ.ситуации тенденцию. Она пересекает различные медиумы и специализации — не только художники, нанятые ими тренеры, но и философы, критики; а также потенциально не являющиеся социальным композитом этих дискурсов люди.
Однако есть и возможные аспекты для проблематизации, которыми могут быть фактическое сужение аудитории до междусобойчика и сложность масштабирования; а в случае с институциональной кооптацией — делегированный перформанс на аутсорсе; не всегда проясненное заигрывание с эзотерикой и прочая.
Предлагаю предметом обозрения сделать 1) этот новый метод или диспозитив, в котором методологическая оснастка произведения преобразуется по аналогии с групповой физкультурой — его вариации, его последствия; 2) подлежащие этому развитию в искусстве общественно-экономические предпосылки, возникающие сопутствующие темы и критические, промежуточные выводы.
Лена Клабукова: Я пока не очень поняла формат того, что мы хотим произвести, Егор в частном порядке предложил просто набросать историю моего интереса к деятельности в этом поле. Пардон за автобиографию, но все основано на моем личном опыте, никакой теории искусства на этот счет я принципиально не читала и за искусством слежу раз от разу. Зато я против рассмотрения чьей бы то ни было деятельности в отрыве от биографии – это абсолютно, элитарно и глупо.
Начиналось все как институциональная критика. Я забросила академическую деятельность, потому что большую часть времени чувствовала себя где-то посередине между грибом и камнем. При всех плюсах, чисто физически деятельность академика — это круглосуточное дисциплинированное всматривание в плоскости с маленькими черными значками и уплощение своей жопы с целью дальнейшей микрошлифовки собраний буковок. Современное монашество, жесточайшая культура физического самоподавления. Я занималась новыми медиа и задумывалась о современном определении человеческого – как экран изменяет его. Передвинулась к художникам, и одновременно меня сразила бессонница. Выяснилось, что я просто невыносимо зависима от своего туловища, а вовсе даже не от мозга. Вокруг все саморазрушаются, а я безо всяких усилий функционировала на какую-то смешную долю от предыдущего состояния. И пыталась работать над саундом, базирующемся на телесности: человек же – машина, в нем куча ритмов, которые управляются не сознанием, и на них можно влиять; все проекты незавершенные. На дне депрессии я догадалась пойти на контактную импровизацию (такие танцы [2 – прим. Егора]) — а там комьюнити любителей смешения физического и умозрительного: «распуши бедро», «дыши сердцем». Смешно, но работает. Подышала немножко вагиной — и реально правда лучше себя чувствуешь. Стало явно, что современные художники в очень многих аспектах своей деятельности занимаются групповым самовнушением, просвещенным шаманством, квазирелигиозными практиками. По мотивам была произведена сессия минского гипнотария «Производство нежности» [2016, для первого «Работай больше! Отдыхай больше!»]. Олег, главный минский гипнотизер, не до конца понял поставленную задачу, но как бы то ни было — мы должны были еще сильнее поверить в великую важность нашей деятельности, в высочайший уровень наших притязаний, особенно присутствовавших, еще сильнее проникнуться друг к другу и к работе глубокой нежностью и дружеским плечом. Плюс там были вопросы слияния и поглощения работы и отдыха, конечно. Олег сказал важное. Как помнят присутствовавшие, никого дальше от политической осознанности быть не может. Я на брифе ему говорю: «Вот, боюсь, у меня сложная группа, все критические художники, получится ли загипнотизировать?» А он: «Ха, смеешься, это самые простые — люди с воображением и с развитой способностью к концентрации — их внушаемость самая высокая».
Потом с Движением Ночь мы делали пару ночей без движения («Ночь без движения» и «Ночная маза» [весна 2017]), основывавшихся на ощущении себя, своих возможностей и вообще необходимости какого-либо действия – в депрессии, да и просто в любой момент у приличного человека в современности.
Дальше — «Лаборатория самозванства» [2018], в которой я довольно случайно однажды была участницей. Тоже про умозрительное постулирование некоторой общности, самогипноз и физические упражнения на закрепление эмоций. Это вам не онлайн-группа для загрустивших «Эмбрейс», где как сидел в компе в одиночестве, так и сидишь. Групповые упражнения при отпускании критического самоконтроля порождают очень ощутимую физическую реакцию, куда более сильную, чем от просто самовнушения. Тема самозванства интересна мне в первую очередь с точки зрения все более значимого в информационном обществе/обществе развлечения классового деления по принципу количества полученных знаний/knowledge divide. Знание, хоть и кажется распространенным и открытым всем интернетами, на самом деле не ласковое море для каждого — что вообще довольно вредная иллюзия. Нужно иметь довольно элитарную базу, чтобы даже (весьма условно) доступное знание суметь получить. Нужно знать как, зачем, за счет каких альтернатив (наличие, как минимум, свободного времени). По knowledge divide художественная среда, особенно московская, очень жесткая. Я думаю, этим она обязана, с одной стороны, модернизму с культом нового: я-умнее-чем-все-другие-дураки, с другой – безжалостной конкуренции за жизнеобеспечение и, в-третьих, общей советской культуре абсолютных измерений и унижений. Художественное и гуманитарное снобство в мире, устройство которого мы делаем вид, что лучше других понимаем, — это как прийти в общество инвалидов и вертеть там перед всеми своими ногами, своими руками. Довольно болезненный, в общем, феномен. У «Лаборатории самозванства» было уже много выпусков — видимо, разных по посылу, тот, в котором участвовала я, показался мне немного однобоким. Зная об агрессии среды к недоучкам, Лаборатория основывалась не на снятии этого разделения, а на его продолжении — как бы давай, ты тоже можешь стать конкурентоспособным волком. Там была ирония, но она как будто не задевала главного, а только снимала напряжение. И в целом мое минимальное соприкосновение со средой современного танца все говорит примерно об одном: работать надо как надо, главный решает, сомнения – для слабаков.
Моя прошедшая медитация на информацию на РБ!ОБ! и чуток доработанная она же на Camp as One — «БИ ВОТЕР МАЙ ФРЕНД» (2018) – как и раньше, только частично про йогу, про силу говорящего, силу тренера, когда восприимчивость в подчиненной позиции усиливается доверием в дружелюбной компании. Про тело как податливый и мощный медиум приема и усвоения информации. А необязательные, отвлеченные идейки заходят особенно хорошо, когда канал приема смешанный: тут и текст, и картинка, и воображение, и упражнения. Как в компьютерных играх — чем больше каналов восприятия заняты, тем полнее и эмоциональнее вовлеченность. Еще мне нравится, как ирония (или, к слову, теория) помогает снимать барьеры: эффективнее манипулировать.
Физическое вовлечение очень действенно — как и его ограничение. В музеях-галереях посетитель обязан вести себя как академик/монах: лишенный тела глазомозг (еще и без души). В галереях тело учится покорности. А еще оно важный производитель информации. Западные культуры после античности подавляли связь телесного с воображаемым, но она никуда не делась. Нейромедиаторы любых эмоций изменяют телесное состояние, усвоенные реакции протаптывают рабочие нейронные связи, другие слабеют — отсюда заспираливание как подавления, так и наоборот. Люди, как бы некоторые ни пыжились, – групповые, внушаемые, физические существа.
Про коллективность: классно, когда все вместе в полной видимости и оказываются в неудобной, глупой ситуации, это сближает. Собственно вот это дурацкое слово empowerment — от противного, мягкая милитаризация против общества успеха.
Потом «Би Вотер» — это постгуманистическое, про виртуализацию опыта — мы в курсе, что скоро все интересное будет происходит путем электрических разрядиков прямо в мозг. Не надо никуда больше ездить, не надо никого больше видеть, не надо искать ингредиенты для супа из крокодилов. Все треплются про ксено – альт-инопланетян, чтобы скрыть-забыть тот очевидный факт, что, восседая у экранов, мы огромными шажищами несемся к старым инопланетянам, нормальным гуманоидам-греям. Давайте уже смелее продвигаться в направлении будущего и нахальнее экспериментировать с собой, не только на уровне вставных зубов и ресниц. Сайнсарт сто лет как доказал, что это модно и безопасно. А безопаснее всего – и в этом нас убеждает мой голос – такой нежный и уверенный – экспериментировать с собой на территории сознания. Внушить себе можно почти все, что угодно [3 – прим. Лена]. Вообще, что такое история человечества – бесконечные дичайшие эксперименты над огромными массами людей, единственно важное – качественный программинг. Чему мы можем у этого факта поучиться? Не ждите, пока над вами поэкспериментируют – экспериментируйте над собой сами!
Еще инфойога – про кашу. Обожаю эзотерику: она смешная, отлично встроена в современность, эффектна для психотрипов и волшебный субстрат для каши. Когда раньше люди жили в унитарных идеологиях, они могли размеренно отсекать все, что не вкладывалось. Точнее, обычно за них это специалисты делали. Сейчас нормальный человек не в состоянии перерабатывать всю поступающую информацию. А хочется, потому что общество потребления контента. Поэтому у каждого в голове бездонная шевелящаяся полуживая каша. Причем я не думаю, что это плохо. Мы все — машины по обработке хаоса, собственно, люди да пчелы – всему остальному энтропия до лампочки, а нам надо учиться жить с бременем свалившегося достатка. Мы влачимся в самовоспроизводящейся системе, поглощающей все плюс-минус шаблонные действия. В принципе, нет ничего хуже дисциплины ограничением или требованием, а в идейной пустоте, в которой мы пребываем, уже пора отпустить коней. Плавать сегодня важнее, чем веровать – а что такое самоуверенное следование одной идеологии, как не вера – основа неолиберального успеха? Задумчивый человек, конечно, должен быть против профессионализма.
Все надежды – на странные политизации и дурацкие метанарративы. Тело –инструмент, которым можно исследовать будущее из прошлого через самозаворачивание себя в альтернативные воображаемые системы. Революционная деятельность в прогрессивной внутренней эмиграции. Высокая квазиавтономность, малоограниченные возможности, наконец-то самоуправление, радикальное снижение агрессивности к отличающимся, легкий рекрутинг новых членов — да это даже лучше, чем переселиться в компьютер! А вспомним йогов, которым даже еда не нужна, только трипы! А эманации орла! Ааааах!
Аня Козонина: Для меня перечисленные выше практики имеют два условно противоположных источника. Или, можно сказать, я вижу два противонаправленных вектора интересов, которые смыкаются в этих практиках.
Первый вектор схвачен и обозначен Егором. Насколько я понимаю, ты говоришь о некоем перформативном воплощении (или стороне) эстетики атлетизма или о сдвиге от иконического к перформативному. Эта линия для меня проходит из визуального искусства в телесную (духовную) практику, от образов к физическому опробованию (когда художник, например, занимался концептуальным искусством, живописью или инсталляцией и вдруг начинает делать перформансы с йогой и айкидо). Мне кажется, этот интерес художника-вуайериста/академика/умозрителя к физической практике (вне зависимости от последующей его концептуализации художником или критиком) может иметь как минимум два мотивационных стимула.
1) Обозначен Леной Клабуковой: работа с телом как расширение своей умственной художественной или исследовательской практики и одновременно желаемый чисто терапевтический эффект: освободить или пробудить тело, чтобы стало лучше, легче, спокойнее, бодрее. В общем, сперва интерес эгоистический: все мышцы зажаты, жить так больше невозможно, идешь на танцы, йогу, массаж, получаешь опыт досуговый/терапевтический, а дальше вдруг понимаешь, что это можно расширять за границы досуга. Этот акт можно прочитать как эмансипацию самих практик, которые апроприированы и выхолощены коммерцией и сила которых направлена на персональную прокачку для воспитания собственной, кому-то заранее проданной, эффективности.
Насколько я понимаю, тут художница может просто брать этот свой досуговый (психологически ценный) опыт и дальше, (часто иронически) трансформируя, создавать ситуации разной пограничности с разными исследовательскими задачами. Можно вскрывать саму порабощенность практик, или критиковать постфордистское общество, или возвращать через них телесную общность, которая будет направлена не только лишь на воспроизведение рынка досуговых тренингов (как в контактной импровизации), но послужит каким-то более эмансипаторным эффектам.
2) Чисто вуайеристская фантазия о задействовании «физкультуры» в перформансе. Это такой перформативный извод атлетической эстетики, когда художник берет группу упражнений как реди-мейды и скорее задействует их знаковую и контекстуальную сторону, нежели феноменологическую. Переживание, тела, процессуальность или физическая трансформация, которые являются неотъемлемыми частями такой работы, скорее, объективированы или задействованы как концепты, знаки. Я могу ошибаться, но из статьи Егора про работу Савченкова мне показалось, что она подойдет в качестве примера под этот пункт.
В общем, так я себе представляю кейсы, в которых художники, обычно не занимающиеся физкультурой как художественной практикой (как, например, в танце) вдруг начинают помещать подобные упражнения и процессы в рамки искусства.
Второй вектор — условно от танца к визуальному искусству, или от телесной практики в критику, размышление, умозрение, или из спортзала в культурную институцию. Это когда люди (в основном, танцоры или просто практики, телесно ориентированные перформеры) свой ежедневный, обычно прагматически ориентированный, тренинг выставляют как искусство или начинают осмыслять в эстетическом или критическом ключе. Я вижу этот вектор как противоположный, потому что здесь ежедневная практика, не являющаяся для этих людей специфической, вдруг начинает ими же рефлексироваться, выпадает из своей прагматики, критикуется и начинает по-новому использоваться. Грубо говоря, это не уход в тело, а попытка выйти из его автоматизмов в метапозицию. Тут в пример идет и «Лаборатория самозванства» (авторы: Вик Лащёнов, Вера Щелкина, Дмитрий Волков), в которой физические упражнения тренинга буквально вылеплены из извращения соматических практик (мне как танцору-любителю это восхитительно смешно, а человеку со стороны, наверно, непонятно). Другой пример — грезы хореографа Мортена Спонберга о рейве, вечеринке или соматическом тренинге как новом способе репрезентации танца, который, пока не будучи принятым в эстетическом ключе, еще может производить какие-то продуктивные сдвиги, волнения, тревоги[3].
Поскольку оба эти вектора смыкаются в условном формате «физкультуры в галерее» или «художественной акции в спортзале», мне эта тенденция кажется важной в плане преодоления маргинализации физических практик и в том числе танца как «антиинтеллектуального нерефлексивного искусства». Поскольку моя работа располагается на границе между производством критической рефлексии и непосредственным погружением в телесную практику, я часто испытываю угнетение с обеих сторон. Условные интеллектуалы перестают со мной разговаривать, когда я говорю им, что занимаюсь критикой танца, условные телесники напрягаются, когда говорю, что пытаюсь осмыслять их работу, а не просто «погружаться в пучины личного опыта, медитируя на распушающееся бедро, или дышать вагиной». Это что касается моего личного эгоистического интереса (мне от этого легче). Ну и меня лично воодушевляет, что та ирония, которая почти всегда присутствует в подобных работах, создает подушку безопасности, ситуацию игры, в которой эти два модуса практик могут сблизиться и взаимно обогатиться.
Егор Софронов: Намеренно не упомянул хореографию выше в своем стремлении указать именно галерейный (изобразительный) контекст, хотя поиски внутри танцевальной конвенции, конечно, представляются наиболее очевидным способом прочертить генеалогию. А, вероятно, ставший столь модным в кураторстве топос танцпола[4] может указать не менее важный — хотя и вытесненный из-за его низкобрового происхождения — стимул к физической активации галереи. Или, ýже, к хореографизации видео: например, в начале августа в галерее ИССМАГ было показано «Мерцание» Ани Кравченко, зрелищная и цепко смонтированная на три минуты разминка или танцрутина самой Кравченко под аддиктивный бит композитора Анастасии Толчневой. Некую хореографизацию можно расширить даже на графические партитуры (в звуке; или на плоскости — как в «Слайдах к лекции-перформансу» [2018] Оли Сосновской) и на живые видеотрансляции исполнительских жанров (как, например, у трио Strange Attractors).
В рейве и его отзвуках в галерее нам дано проявление т. н. социальной хореографии, или, как выражался Зигфрид Кракауэр, орнамент массы, то есть такое поверхностное проявление эпохи, которое лучше выражает суть времени и его бессознательное, нежели претендующие на серьезность суждения эпохи о себе. В перформансе «Ай-яй-яй-перформанс (гармонический осциллятор)» (2014) дуэта «Айседорино горе» это бессознательное было выражено прямолинейно, как имитирующее копуляцию вернакулярное выпячивание — то есть настаивающее на либидинальном овладении своими телесностью и желанием в противовес академическому танцу и репрессивному консервативному повороту в обществе[5].
Это переовладение может проявляться и в двух других векторах: 1) в разотчуждении, реапроприации городского пространства, опьяненного в психогеографическую игровую площадку (как в вышеупомянутом паркуре Олевой и Максименко, или в более трезвом стремлении картировать город в РБ!ОБ!); 2) экологической идее о взаимосвязанности, могущей обращаться к панпсихизму, витализму и эзотерике, как у экосексуалов, чьи потенциальности побуждают пересматривать стандартный марксистский скепсис по отношению к нью-эйджу — например, в серии сеансов «Суккулентотерапия» Анастасии Кизиловой (2015–) и производных от нее лекций о сознании и дееспособности растений, для которых художница задействует дыхательные медитации на ковриках, внушение и световую настройку.
В магистральном и рыночно/институционально успешном изоискусстве видно, как эти мотивы получают иконографическую центральность: в видео «Лиминалы» (2017), одной из самых ярких работ с прошлогодней Венеции, канадский художник Джереми Шо спекулирует о постапокалиптических культах, отправляющих ритуалы на гибриде групповой физкультуры и дискотеки до состояния то ли экстаза, то ли истощения ввиду безбудущности.
Что отличает взаимодейственные и основанные на инструкции перформативные воплощения физкультурных практик от подобной простой иконичности, так это упомянутые обеими Леной Клабуковой и Аней Козониной (и Спонбергом) вовлечение и эмансипация. А для их поддержания или усиления может использоваться проприоцепция, концептуализированный на стыке хореографии и нейронауки мимесис движения прямо в мозге. Клабукова даже подчеркивает политический потенциал методологий «телесных и духовных практик» в том, как они потенциально способны к самоподдержанию и резистентности даже во внешне враждебной среде.
Аня Козонина: Что касается вовлечения и эмансипаторного эффекта физкультурных практик, я бы хотела тем не менее подчеркнуть двойственное положение и уязвимость этих практик вот в каком ключе. Известна критика танца, перформанса, физкультуры в галерее по линии «развлечение — аффективный труд», которую, говоря о танцевальных выставках, суммирует во введении к своей статье «Черный ящик, белый куб: пятьдесят оттенков серого?» Клер Бишоп[7]. Но я бы хотела обратить внимание на другого рода уязвимость и склонность к «реактивности», которая идет скорее из поля танцевально-телесного. Поскольку физическая практика, особенно танцевальная и соматическая, часто привлекает своим терапевтическим эффектом, она служит способом сведения всех неурядиц к проблемам собственного тела-психики. Короче, если обратиться к рассуждениям Марка Фишера[8], физическая практика в массе своей служит деполитизации психических и телесных расстройств, предлагая вместо общественных перемен ряд индивидуально атомарных упражнений, которые никогда не срабатывают раз и навсегда и, скорее, подсаживают на терапевтически-досуговое времяпрепровождение.
Это, к сожалению, часто руководит и танцхудожниками, которые строят свое искусство вокруг поиска собственного телесного комфорта и предоставления такового для зрителя/участника, что приводит к постоянной зацикленности на потребностях своего тела, нарциссизму и невыносимой скуке. Поэтому, говоря об эмансипаторных эффектах физических практик, стоит учитывать, что сами практики еще должны быть изъяты из терапевтической машинерии и реполитизированы. Этим, как мне видится издалека, прямо и косвенно занимаются, например, квир-активисты и проект «Телаборатория», которые свою деятельность помещают в политический контекст. Именно поэтому в той тенденции, которую я условно назвала «от практики к рефлексии, из танца в изобразительное искусство» мне важна эта возможность остранения, которую художественный контекст дает зацикленному на теле, комфорте, терапии танцу.
Мне только непонятно, куда и почему у художников вдруг девается упомянутый марксистский скепсис к нью-эйджу. Как будто танец вдруг обретает этот скепсис по отношению к самому себе, а художники его отметают. Или это просто сверхскепсис и сверхироническая дистанция?
Оля Сосновская: Думаю, сначала стоит немного обозначить мои позицию и бэкграунд. Они, возможно, немного схожи с Аней Козониной. Я практиковала современный танец несколько лет и в то же время писала о танце и теле в рамках своего академического образования, в итоге окончив магистерскую программу по антропологии танца. Меня интересовали различные формы репрезентации танца и телесного опыта: в видеорепрезентации или дискурсе танцоро_к. Среди прочего, я делала исследование о массовом гимнастическом перформансе «Беларуская ваза» в современной Беларуси, обращая внимание на историю этой хореографической формы, опыт перформеро_к и идеологию. Уже несколько лет я не занимаюсь танцем, но работаю с текстом, перформансом и видео как художница и исследовательница.
Для меня физкультура — это исторически дисциплинарная практика, отношения власти и тренировка тела для повышения его производительности и эффективности, классический пример из Фуко. Однако, конечно, это также часть утопического воображаемого о коллективности, самосовершенствовании и кооперации. Сегодня, ясно, эти практики некоторым образом трансформируются. Хочу продолжить упомянутую Аней критику Марком Фишером связи между физкультурными упражнениями и деполитизацией субъектов. Сегодня физкультура или телесные практики вроде йоги часто служат эскапизму, однако этот побег, как правило, ведет лишь к повышению нашей продуктивности и эффективности в рамках существующей системы: мы расслабляемся, чтобы лучше работать. Признаюсь, я и сама этой зимой пошла в тренажерный зал вместо психотерапии. Мне такое положение напоминает сдвиг в исторических способах контроля за жизнедеятельностью человека: от криминализации суицидов до развития аппарата психотерапии, чтобы не наказывать граждан за самоубийство, а предотвращать его, о чем поэтически рассказала в своей работе «Посвященный II» (2017) художница Сидсель Мейнехе Хансен.
Связь между существующими производственными отношениями и танцевальными и двигательными практиками хорошо прослеживается на примере развития танца модерн и современного танца. Если в начале XX века через «свободное движение» представительни_цы танца модерн восставали против дисциплины фордизма, сейчас именно это так называемое «свободное движение», гибкость, креативность, индивидуальность и импровизация (уже привычные характеристики современного танца) — одни из главных основ постфордистcкого общества и часть его структур насилия[8]. Это, конечно, не означает, что нам необходимо вернуться к спортивной муштре. Для меня выход из этой ловушки как раз в тех зазорах, где в дисциплинарных, идеологически нагруженных практиках вроде массовой гимнастики проявляется аффект. А также в приостановке рейва, о которой говорил Боря Клюшников[9], когда дискурс и рефлексия, напротив, вклиниваются в flow и транс т. н. телесно-духовных практик. Так для меня сходятся физические практики и современное искусство, когда первые не копируются как форма, а дискурс и телесно-эмоциональный опыт работают вместе. Поэтому и в своей художественной работе мне важно иметь дело с текстом/языком и перформативностью, где одно постоянно перебивает другое, указывая на неполноту обоих, оперируя одновременно на невербальном уровне тела и переживания и рефлексии о нем.
С другой стороны, я, конечно, не могла не заметить частый дрейф перформанса к тексту. На РБ!ОБ! этого года было множество перформансов, которые включали в себя обездвиженные тела как публики, так и художни_ц, и речь/текст, вербализацию или активное воображание перформативного, многие из которых уже упомянул Егор. На РБ!ОБ! 2017 итальянская художница Миа Д. Суппье также представила перформанс «Готовый», включавший в себя видеопроекцию и устную речь о концепции fitness в значении спортивной практики и соответствия месту и контексту — to fit значит подходить чему-либо — и бесконечной подготовке себя к чему-то: успешной карьере в полном конкуренции художественном мире или апокалипсису. Мой коллега Коля Спесивцев предположил, что такая тенденция демонстрирует и подтверждает, что пока у нас нет другого медиума, чтобы передать и осмыслить все множественные и сложные процессы современности, кроме языка.
Еще я бы хотела заметить, что физкультура и ее эстетика в том или ином виде в последние годы стали модными в принципе. Спортивный стиль в одежде, эстетизация окраин и гопников с их полуболезненными телами, облаченными в спортивные костюмы. Уже упомянутые рейвы это также в каком-то роде спортивные площадки, но для изнеможденных и немного болезненных от нехватки сна и еды, наркотиков и невротических выходов тел. Забавно, что такие тела демонстрировали перформер_ки Анны Имхоф в получившем Золотого льва Венеции-2017 «Фаусте»: смесь героинового шика и отчужденности стильных молодых моделей и танцоро_к в спортивной одежде, в работе, которую к тому же обвиняли в фашистской эстетике. Если продолжить спекулировать по линии этой критики, то можно вспомнить эстетизацию атлетического тела у Лени Рифеншталь — у Имхоф сегодня эстетизируется иное «атлетическое» тело современности: одновременно спортивное, болезненное и отчужденное.
Елена Ищенко: Во-первых, скажу, что критик, о котором Егор говорит в начале беседы, — это я. Мой комментарий будет со стороны наблюдателя подобных событий, с позиции критика, а не автора или практика. Говорить я буду в первую очередь про ту линию, которую Аня Козонина обозначила как сдвиг в сторону перформативности.
Мы недавно обсуждали эту тему с Тоней Трубицыной (кураторкой и научной сотрудницей Музея «Гараж»), и она сказала очень важную вещь о подобных практиках. Обычно на выставках тело отчуждается — оно фактически исключено из этого процесса восприятия, к нему ничего не апеллирует и зачастую оно устает: каково это — пройти все залы той же Третьяковки, останавливаться, читать экспликации? (Тут мне вспоминается фотография, на которой посетитель выставки «Генеральная репетиция» читает экспликации, стоя на коленях, на специальной, принесенной с собой подушечке). Сейчас стало модно говорить, сколько времени понадобится, чтобы посмотреть всю выставку, и иногда это время измеряется часами и часами. Никто не думает, что тело устанет. А различные физические упражнения и другие подобные практики, используемые художниками, наоборот, включают тело в художественный процесс, тело перестает быть отчужденным. В этом смысле подобные практики мне кажутся очень важными, и именно поэтому они образуют новую тенденцию, в отличие от той линии, которую Аня обозначила как работу самого художника с танцем, телом и так далее.
Главная проблема подобных практик в рамках искусства примерно такая же, как, например, в сайенс-арте: это одновременная профанация и того, и другого — и физического, и эстетического. Я пишу свою реплику возле бассейна в резиденции Camp as One, где большая часть художественных практик — это как раз такие полуфизические-полухудожественные упражнения, которые составляют основное расписание дня. Такая концентрация выявляет проблемные моменты подобных практик. Мне кажется, что, в первую очередь, это все как будто не по-настоящему. Есть элементы медитации, но медитация с помощью какого-нибудь приложения гораздо эффективнее; есть зарядка и упражнения — но они не укрепляют тело, скорее, пытаясь обратиться через телесное к внутреннему. Если в контексте летнего художественного лагеря это отлично и действительно приносит отдых и становится таким «романтическим ЗОЖем», как пишет в тексте кураторка Маша Котлячкова[11], то в другом месте это во многом потеряло бы свой смысл, превратившись в развлечение.
Из интересных примеров могу отметить лекцию «Экологии антропоцена: о необходимости становления земным» Екатерины Никитиной на выставке Софы Скидан, которая сопровождалась практикой йоги от самой художницы, профессионального тренера. Мне понравилось, как при смене каждой позы приливала волна внимания к довольно монотонному (медитативному) повествованию. Если бы не физические упражнения, мне кажется, все бы погрузились в коллективный сон. Это классный пример того, как физические упражнения напрямую подпитывали умственную активность (несмотря на то, что на следующий день у меня дико болела шея — из-за неподготовленности, неудобной одежды и т.д.).
Еще одна проблема подобных практик в том, что они почти всегда лишены критического подхода к собственному методу и иронии. Дышать вагиной — классно, медитация — круто, йога — кайф, физ-ра — супер! Но мало кто исследует эти методы, их историю и разные значения, или осознает их с точки зрения эскапизма, ухода из политического пространства, техник эффективности, работающих на капитализм, о чем уже сказала Оля. Чаще всего все как-то буквально и слишком серьёзно. Поэтому мне нравится работа Лены Клабуковой «Би вотер май френд», которая была и на РБ!ОБ! и сейчас в немного изменённом виде на Camp as One. Это медитация, но ты никак не можешь в неё погрузиться: техника та же, но есть триггеры — словечки чаще всего, которые тебя смешат и критикуют ту же технику.
Или — «Хоровые упражнения» (2018), исследование хора и итоговый результат совместного пения по партитуре, написанной Олей Сосновской и Алексеем Борисенком для Camp as One. Или — йога-медитация Фриды Сандстрём на РБ!ОБ!, где почти все движения — кроме жеста вытянутого кулака — были переведены в регистр воображаемых.
В этих работах тело оказывается включено в процесс, оно фактически становится воспринимающим органом, но в них сохраняется и даже преумножается напряжение, которое позволяет сохранить возможность критического восприятия, осознанности.


Оля Сосновская, Алексей Борисёнок. Хоровые упражнения. В рамках резиденции Camp as One. Витязево, Краснодарский край, 2018
Лена Клабукова: Давайте я попробую финализировать. Итак, мы хотим понять, как это в искусстве развелось так много всяких связанных с телом практик и куда это ведет.
Начнем с того, что мы, конечно, занимаемся неприличным делом, пытаясь сложить все тела в одну телегу: медитацию, рейв, паркур, атлетику… Хорошо, что не я одна люблю неприличные дела! Примерно как: а давайте обсудим художников, которые рисуют красками. Это, во-первых, медиум, которым можно решать разные задачи.
Во-вторых, цивилизация все-таки улучшается. Сто лет феминистки боролись за уважение женщин — и вот все больше женщин их действительно уважают. Тело в искусстве всю историю было объективируемо, а стало просвещенно объективируемо. Сайнсарт, поедание супов на выставках, уважение к физически отличным наконец-то вывели тело из художественного подполья. Стало преодолеваться фашизоидное разделение труда на голову и низкое. Возможно, так проявляется усталость (при всей любви) от упрощающих требований жестких структур — например, всяких левых движений. Life sciences — это страшно, потому что любая строгость и академизм тут сразу валятся. Тело нельзя определить конкретно. Можно тыкать пальцем в небо бесконечно – и каждый раз попадать.
В начале прошлого века тело на время перестало казаться черным ящиком, а стало заводом, техникой, которая должна быть эффективной — по принципу автомата для бритья. Ко второй половине века оно превратилось в магический завод. Программирование себя — феномен доисторический. А перепрограммирование на квазинаучных основаниях началось с 20 веком. Броди Кондон работал с историей психотерапевтических групп в Америке, — рассказывал, что у них бесконечный массовый расцвет примерно с 60-х. Только точно программировать ни у кого не вышло. В принципе, это колдовство – производить манипуляциии и смотреть, что получится. Колдун не отвечает за результат, потому что постулирует, что вступает в сложное взаимодействие. Так что назовем это административно-магическим поворотом. А страх себя никуда не делся. Тело – пугающее возвышенное, кусок ужаса, который всегда с тобой. Жизнь идет вперед – стиральные машинки, миксеры, вайфай в метро, волнующие путешествия над облаками, имплантаты, нажимаешь кнопку – и все работает. Кроме тела и общества: слишком сверхдетерминированные, слишком непредсказуемые, слишком отталкивающие. А, и фейсбук туда же блэкбокс.
Дальше – старение западной цивилизации, ее очередное массовое обеднение и страх перед чужими – физически другими. Оля упоминала о гопниках — их тела выглядят похожими на наши. Только в них нет ни рейва, ни спорта – они похожи пугающе. А в рекламе все отражается в первую очередь – она, как и искусство, основываясь на данных, стремится влиять на будущее.
Потом, искусство – массовый феномен, при известном перепроизводстве художников занимаются они стандартизированным списком вопросов и тенденции распространяются со скоростью ветра. Как и любая другая человеческая деятельность, искусство укладывается в концепцию туризма home+ – нужны, да и возможны в норме только минимальные отличия, порождающие то самое интересующее дребезжание смысла. А тот факт, что тело до крайности легко внушаемо, позволяет доходчиво использовать его как знак других манипулируемых систем – например, для тренировки субъекта искусства. Егор беспокоится еще о превращении искусства в междусобойчик – так оно он и есть, в основном и главном это циркуляция идей внутри закрытой тусовки. С целью подтверждения, что те, кто им занимается, лучше, умнее, тоньше, индивидуальнее, развитее всех остальных – такой опыт самопоглаживания. Поэтому формат закрытого мероприятия здесь самый подходящий. Но и скайп-йогу по подписке и рейв-стрим в фейсбуке мы уже для себя открыли!
С новой стороны, тело в обществе выходит на первый план, когда не за что зацепиться снаружи. В идейной пустоте, в безвременье, в постправде, в отсутствии будущего за потенциально реальным отправляются внутрь. Я тело, следовательно, я существую. Находится ощутимый отклик – и на него наслаивается символическое. Потребность зацепиться за устойчивое свойственна всем. Один добрый эзотерический друг с высшим медицинским образованием предложил интересное: зачем тебе, говорит, сдались научные доказательства? Ты проживаешь некий странный опыт (у меня таких коллекция) – его невозможно научно объяснить, но он реален. Живи исходя из этой твоей реальности, а не из того, что ты не знаешь, как ее верифицировать. То же советовал мой дарк-психиатр – реальный специалист – не знаю, говорит он, какая из многочисленных реальностей, описываемых моими пациентами, самая реальная. Совет один: воспринимай своих родственников как галлюцинацию.
Дальше – про выхолощенность нехудожественных телесных практик коммерцией. Вовсе необязательно. Многие художники и философы в душе считают себя эксклюзивными носителями верного, светочами среди ослепленных капитализмом глупых обывателей, улучшателями, как говорит одна сотрудница Музея русской иконы, «человеческого материала». К счастью, это не так. Смыслы ищут многие. Те занятия телом, на которые я попадаю (знаю места), полны любви, дружбы, поддержки и заботы — и не за индекс цитируемости, а потому что хорошо продаются. Возвращаясь к общественным тенденциям обращения к телу — наблюдаю широкий низовой рост уважения к личности, на моей личной памяти беспрецедентный.
Это работает в том числе политически. Если современное искусство и философия – это собрание бедных брызжащих слюной невротиков, то нет ли, пожалуйста, какой-нибудь более здоровой карьерки? Можно веровать в спасение через Лакана, через критическую теорию, можно быть последователькой эссенциалистского культа Донны Харавэй, спасаться искусством или, наоборот, городским дизайном, а можно, ласкаво просимо, «дизайном человека», а также многими другими эпистемами. Идеалистические горизонты сравнимы — ищется способ уважать каждого. Зато телесный опыт можно действительно присвоить. Когда ты умный, то обречен до пенсии отчитываться за каждое чужое слово, хотя в эпоху интернета мысли по большому счету общие, они часто приходят в головы параллельно многим. Я вот и в ус не дула, что модными делами занимаюсь. А в телесных практиках мало копирайта, ты волен пользоваться своими новоприобретенными ощущениями без библиографии.
Еще Оля говорила про мощь текста, который никто пока не обскакал. Я про себя могу сказать, что с текстом работаю потому, что так просто случилось, до 20 лет жила в бедной медиумами и смыслами среде и до сих пор легко умею воспринимать только буквы. Но за перепроизводством слова все сильнее пустеют, вокруг сплошной арт-смм, жонглирование переливами литер, мантры, слово, как в совке, все ближе к абстракции. А тело наглядно. Хоть и тоже перепроизводство (как всего), и экран черного ящика. Однажды у меня было озарение: в метро в Нью-Йорке случайно в вагон набились люди невероятно разных тел. Совершенно разных. Никак не сравнимых — и несравниваемых. Все мои греческие идеализмы отвалились за минуту. Или посещения непрофессиональных танцевальных занятий – каждый раз я очень близко вижу, что ни одно тело в своей целостности не возвышается над другим. И то, и другое политически сильнее, чем восемнадцатиэтажные расклады киберфеминисток.
С очередной стороны, есть новая биополитика, свежий протестантизм. Они не государственные, как Фуко планировал, а добрососедские, рандомные. Жизнь ускоряется, а тело не молодеет. Хочешь–не хочешь, а надо активизировать единственный, казалось бы, по-настоящему собственный актив. Хочешь, чтобы твоя машина хорошо работала на долгой непенсии? Разминайся, не потому что надо, а потому — что сосед вон поразминался и ходит как огурец, даже завидно. Потому что каждый сам себе господин — и сам сравнивает себя со всеми, но с кем попало. И вот современные метанарративы — их множество и они обновленные. Раньше хотели всю твою душу, а теперь можно продать ее многим. Или попридержи, никто не торопит. Кусочек тут, кусочек там, выбирай сам, дорогой товарищ, как твоей душе приятнее. Каждый счастлив своими кусочками. Главное – экологично, главное, чтобы машина твоя была устойчиво холистически здорова.
Файналли, как верно подчеркивают со-авторки, это раньше свобода была освобождающей, а ныне она порабощает. Но на своем опыте — после аффективного зожа вернуться к фабричной физкультуре с подсчетом приседов невозможно. Свобода освободила. Даже самые прогрессивные идеологии как набор навязчивых правил, великих имен и четких упражнений вызывают физическое отторжение. Есть ощущение, что повышение осознанности как множество микрополитик куда более интересно – либо ты солдат, либо ты в игре, а жизнь одна. Надо политизировать физические практики, но делать это осторожно и нахально, прогуливаясь по тоненьким жердочкам между грустными фашизмами идеологий. Ах да, хочу подчеркнуть – тело вообще далеко не единственное, что меня интересует!


Вокруг да Около. Серия коллективных тренингов. Направление поисков: концентрация внутрь, усилие пассивности, обострение восприятия, осознание через движение, зеркало/интерсубъективность, коллективное тело. В рамках резиденции Camp as One. Витязево, Краснодарский край, 2018
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Troemel B. Athletic Aesthetics // The New Inquiry, May 10, 2013, доступно по https://thenewinquiry.com/athletic-aesthetics/.
[2] Контактная импровизация — изобретение Стива Пакстона, одного из пионеров неоавангардной хореографии Джадсоновской церкви, с 1972 ставшая популярной в мире групповой практикой. О контактной импровизации мне рассказала в начале 2015 года художница и куратор Анастасия Дмитриевская, тогда посвящавшая ей свой досуг.
[3] Почти: от бессонницы я и друзья пытались меня переубедить 3,5 года – помогла только серьезная фарма, потому что бессонница – это органическое изменение в мозге, к которому привело что – стресс = эмоция.
[4] См. Spångberg M. Post-dance, An Advocacy, а также весь сборник, в котором опубликовано эссе — Post-Dance, The Book. Edited by Danjel Andersson, Mette Edvardsen, Marten Spångberg. Stockholm: MDT, 2017. Сборник является результатом конференции, организованной Андре Лепеки, Даниелем Андерсоном и Габриэлем Сметсом в стокгольмском театре МДТ в 2015 году. Спонберг: «Мы будем не только поддерживать идею о хореографии как расширенной практике, но также танца как расширенной практики. Танец не нуждается в хореографии, но может в равной степени строить себя относительно других возможностей: соматической организации, BMC, терапии, диско, спорта, боевых искусств, литературных построений или структур, связанных с производством, домашним трудом или квантовой физикой». P. 371–372.
О посттанце как о новом развитии в хореодискурсе я почерпнул из лекции Анны Козониной «Знание танцпола: теории и практики современных dance studies» в Музее «Гараж» в Москве 17 июля 2018.
[5] И не только в Московской молодежной биеннале-2018, посвященной в т. ч. рейвам и чья образовательная программа проходила в зале, застроенном как танцпол и с дискошаром над головой — стоит упомянуть помимо музыкального историка Саймона Рейнольдса и куратора Нава Хака также теорию киберкультуры 1990-х, особенно в Британии.
[6] Впоследствии эта ценностная программа была изложена в Плохова Д., Портянникова А. Тело — медиум: диалоги Айседориного горя // Художественный журнал № 103 (2017). С. 110–115.
[7] Бишоп К. Черный ящик, белый куб: пятьдесят оттенков серого? // Художественный журнал № 103 (2017). С. 48–59. Имеются в виду позиции по отношению к живым событиям в галерее таких разных авторов как Хэл Фостер, Свен Люттикен, Джерри Сальц; и критическая линия, отождествляющая исполнение с симптомом постфордизма в том, как он был описан Паоло Вирно и другими.
[8] См. Fisher M. Capitalist Realism: Is There No Alternative? Winchester: Zero Books, 2009.
[9] Kunst B. Dance and Work: The Aesthetic and Political Potential of Dance // Emerging Bodies: The Performance of Worldmaking in Dance and Choreography. Edited by Gabriele Klein and Sandra Noeth. Bielefeld: Transcript-Verlag, 2011. P. 47–59.
[10] Клюшников Б. К материалистической диалектике тусовки: современное искусство и субкультуры. Лекция в Новой Голландии в Санкт-Петербурге 11 июня 2017. Доступно по https://youtu.be/UN2lzoDFQkk.
[11] Котлячкова М. Кураторский текст к резиденции «Как один. База отдыха», 2018. Котлячкова сумела собрать различные подходы вокруг модели санатория, турбазы, или пионерлагеря, удачно совмещая реконструкцию восстановленной из исторического прошлого утопии и актуальные практики: «Истинная забота о себе — только коллективная, для которой важны как режим, диета, дыхательные упражнения, прогулки, так и общение с единомышленниками. Советская курортология приравнивала подобного рода романтический ЗОЖ к работе, которая предполагала такие экзотические процедуры, как воздушные и грязевые ванны или ландшафтотерапию». Курсив ЕС.
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.



















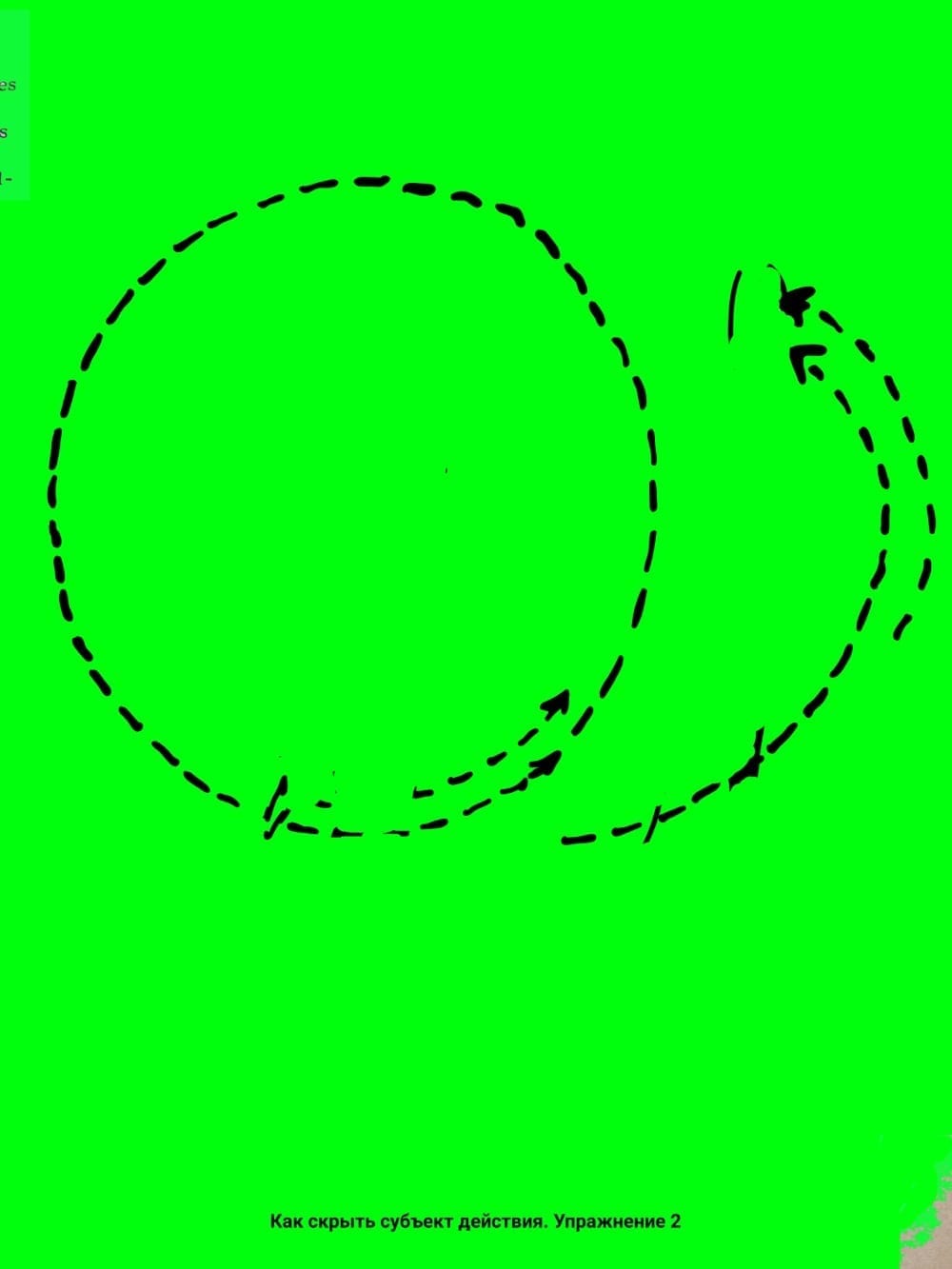
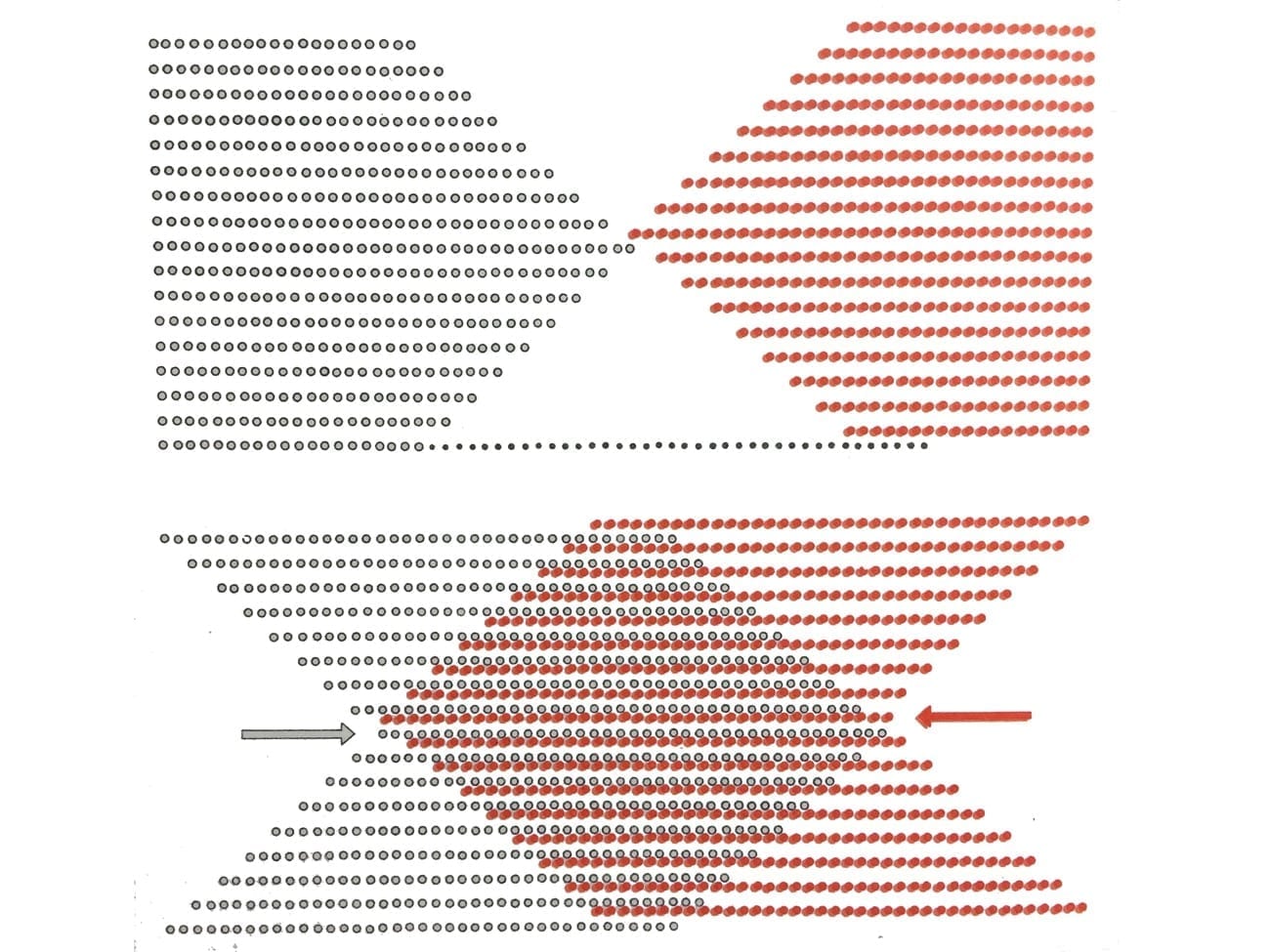


























[…] воркшопы, на которых практикуется создание горизонтальной и безопасной среды, […]
[…] воркшопы, на которых практикуется создание горизонтальной и безопасной среды, […]
[…] Лена Клабукова, Анна Козонина, Ольга Сосновская. Физкультура в искусстве // aroundart.org, 28 сентября […]