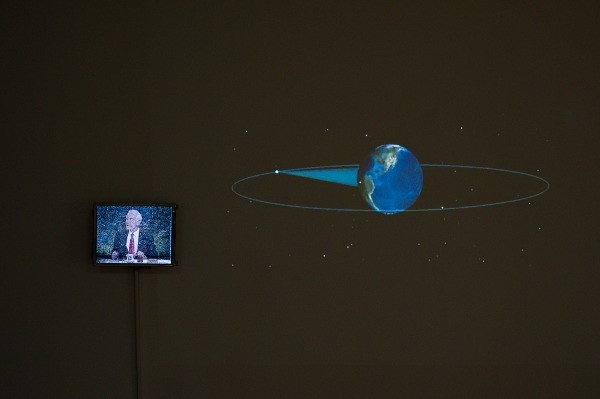Стас Шурипа: «Я не любитель культуры быстрых комментариев»
Кураторская активность Стаса Шурипы, организовавшего в течение полугода несколько крупных выставочных проектов, побудила Aroundart задать ему ряд вопросов.
Сергей Гуськов: За последнее время, примерно за полгода, вы сделали три большие выставки — в ДК ЗИЛ, в ММСИ совместно с Саней Кантаровским и на «Винзаводе». Они сделаны по разным причинам, в разных условиях, некоторые создавались долго, а некоторые — сравнительно быстро, когда, например, появлялась возможность использовать помещение, как на «Винзаводе». Хотелось бы узнать об опыте этих кураторских проектов.
Стас Шурипа: Важный момент: даже те выставки, которые, на первый взгляд, были сделаны в стремительном темпе, не делались впопыхах, в каждом случае был достаточно длительный процесс вынашивания идеи, осмысления ее потенциала, обсуждения. В «Кажется, здесь чего-то не хватает», — там идея и структура экспозиции вызревала в течении нескольких месяцев, если не больше. А не так, что звонят например и говорят: «Слушай, тут площадка свободна, сделай что-нибудь». Три последние выставки это как бы три ступени раскрытия одного ряда мыслей, три участка одной линии. И выставка на «Винзаводе» технически была произведена достаточно быстро (что и хорошо, зачем вязнуть в деталях, когда надо сделать высказывание), но в аспекте идей, общения с художниками — это результат довольно длительного процесса. Это и есть оптимальный формат: ты работаешь с контекстом несколько месяцев, и затем, в течении нескольких дней его материализуешь в экспозиции. На другие предложения я стараюсь и не соглашаться. Так что вывод, что выставка была сделана, когда появилось помещение — неверен.
Иван Егельский, Потерянный телеканал; видеоинсталляция
Фото: Галерея 21
СГ: В ваших выставках участвуют самые разные художники, но есть определенный костяк, с которыми вы работаете чаще других. Художественным сообществом это воспринимается иногда иронично, иногда критично, но если подойти к вашему выбору серьезно, то, в принципе, у каждого куратора есть свой набор художников, с которыми он или она предпочитает работать. Достаточно посмотреть, например, списки участников выставок, которые организовал Виктор Мизиано. Расскажите о тех художниках, с которыми работаете вы. Как вы сосуществуете?
СШ: Сомнительное с профессионально-этической стороны утверждение: «сообществом это воспринимается иронично»; ссылаясь на некую анонимную молву, вы инструментализируете образ сообщества. Я о таких оценках ни от кого кроме вас не слышал, и непонятно, при чем здесь ирония, ведь она обычно скрывает бессилие иронизирующего.
Есть авторы, которые участвуют почти во всех моих выставках, их имена известны: это Аня Титова, Саша Сухарева, Юлия Ивашкина, Александр Повзнер, Сергей Огурцов и другие. Они на мой взгляд нашли свои, очень точные способы описания духа нашего времени, без дидактики и популизма. Они делают многоплановые работы, на пересечении различных контекстов. Таких авторов раньше не было. Тем не менее, у меня нет амбиций быть профессиональным куратором, я в первую очередь художник, и то что я говорю посредством этих выставок продолжает мою художественную практику.
Поэтому мы взаимодействуем на разных уровнях; но узкого круга, замкнутой группировки нет, скорее есть достаточно взаимопонимания, прямые каналы связи, когда можно без макияжа излагать мысли, зная, что будешь понят и услышишь в ответ что-то интересное, в том числе и о своей работе как куратора или художника.
При этом у меня бывают вопросы и к себе как к участнику, вырабатывается даже навык видеть себя в третьем лице: звать его на эту выставку или нет? брать эту работу или другую? Бывает, я не включаю свои работы в выставки, или делаю нечто не имеющее статуса произведения, но имеющее характер искусства, как в ДК ЗИЛ, там было документально ориентированное высказывание в витринах об идейном фоне выставки.
Мне интересны очень многие художники, я слежу за работой довольно большого количества молодых; иногда сам выхожу на связь, иногда авторы меня находят.
СГ: А что вы, вместе с вашими единомышленниками, собираетесь делать в будущем? Я имею в виду, это долгосрочная общность или временное объединение?
СШ: Все в этом мире временно. Далеко идущих планов нет; но есть желание развернуть некоторые мысли. Но группой или объединением это не назвать — нет такой сущности — чего-то, что имело бы устойчивую внутреннюю структуру. Скорее, некоторый уровень взаимопонимания, поле для коммуникации между художниками, с публикой. Можно скорее говорить о контексте, о чем-то ризоматическом, что в принципе можно развивать. Думаю, будут появляться и новые авторы, которым этот конекст близок.
Юлия Ивашкина, Покидающие свои места; холст, масло
Фото: Галерея 21
СГ: Я заметил, что вы привлекаете молодых. Появляются художники, оказывающиеся на орбите вашей группы — Дмитрий Филиппов, Ольга Зовская.
СШ: И эти художники и ряд других начинающих авторов — интересны, у них есть потенциал. Новые авторы появляются, и здесь есть два фактора. Во-первых, при этом обычно существует некая близость идей, внутреннего интеллектуального стиля, способов отношения к происходящему. И кроме того, я сотрудничаю с институциями, например преподаю в Институте проблем современного искусства. И многие художники посещали его образовательный курс; это не только лекции — учащимся важно иметь платформу для общения. Хотя, выставка студентов института и выставка молодых, но активно работающих авторов — это разные вещи, в том числе и в части требований к куратору. Кроме того, я сотрудничаю с «Галереей 21», которая мне нравится именно по критерию интеллектуального взаимопонимания. Эти институции в моей кураторской работе конечно являются немаловажным подспорьем. И тем не менее, главное это первый фактор: новые художники появляются, поскольку хотят участвовать в процессе, который им интересен, где они могут развиваться, обмениваться идеями. В последних моих выставках участвовали достаточно разные авторы, и по методам, и по медиа, и по личным позициям; какой-то единой линии здесь не найдешь. И меня это вдохновляет — делать что-то в такой разнородной среде, и это соответствует тому, что происходит сейчас в мире.
СГ: Мне кажется, что, в первую очередь, это соответствует тому, что происходит в России, потому что те художники, которые берут на себя кураторские обязанности (Давид Тер-Оганьян, Арсений Жиляев, Анастасия Рябова, Петр Белый и другие), собирают в свои проекты тех, кого знают. Там есть момент тусовки, но не только он. Личное знание неких вещей и людей позволяет удачнее организовать проект.
СШ: Нет, все-таки в мире. И в любом случае, нужно личное знание, то есть в условиях медийной, смысловой, идейной многополярности мира нужно иметь и собственное, но при этом достаточно универсальное видение и предельно конкретный опыт проживания неких вещей. То есть быть очень узким специалистом с высокой общей осведомленностью. Наверное, у нас такая ситуация, что эту роль могут играть более-менее успешно некоторые художники. Хотя свою деятельность я не вижу в каком-либо, и в частности приведенном вами, общем ряду или тренде.
Плюс, для меня все-таки важен момент взаимопонимания на уровне идей, контекстов, форм отношения к миру. При этом чтобы не получалась просто дружеская тусовка или, наоборот, панорама различий, а все-таки некое коллективное высказывание.
СГ: Наверное, это общий вопрос, но он назревает. Какова та идейная общность, если говорить о вас и о тех, с кем вы работаете?
СШ: Если в двух словах, то это отношение к визуальному, к пластическому, к художественной форме как к ситуации, то есть взаимосвязи различных обстоятельств: реальных, вымышленных, символических, подразумеваемых. Чувство, что реальность, данная в непосредственном опыте — предельно абстрактна. Если с другой стороны, то в произведении должен быть некий баланс между тремя составляющими: концептуальной, эстетической и документальной. Понятно, что в любом произведении искусства есть эстетический момент: просто посмотреть (хотя, конечно, не все так просто) и получить удовольствие от того, что видишь. Есть документальный компонент: любое произведение свидетельствует о ситуации, в которой оно сделано, — уже просто самим выбором краски. И концептуальное: нечто такое, что в самой работе невидимо, но есть некая история, которая делает произведение частью ментальной реальности, общей для публики и художника. Формулы для такого эквилибриума нет, но когда эти три компонента по-разному сочетаются, тогда возникает эффект возникновения или приоткрывания мира — целостности, где и мысли, и чувства, и сам твой презенс перед работой начинают друг с другом взаимодействовать. Это эффект искусства: вроде бы ничего нет в произведении, но оно столько всего тебе говорит. Само оно непонятно что такое, а говорит очень понятные вещи, которые ты прекрасно чувствовал, но вот теперь ясно услышал их. Я всегда чувствую эти три режима и на основании того, как они сочетаются, могу судить о работе.
Сергей Лоцманов, из серии «Место под солнцем»; акварель, тушь, гуашь
Фото: Галерея 21
СГ: Документальная часть посвящена включению в какой-то контекст. Это интересно. На последней выставке, которая открылась на «Винзаводе», я слышал отзыв, что выставка лишена исторического измерения, что она исторична и наполнена автономными высказываниями. С другой стороны, выставка на ЗИЛе была включена в историю. Я понимаю, что историзм может пониматься самыми разными способами…
СШ: В «Кажется, здесь чего-то не хватает», как и в «Контриллюзиях», нет обращений к некой Истории как к мастер-нарративу, под сенью которого все обретает подлинный смысл. Такая История — не из действительности, а из сферы психологии, это когда субъекту хочется понятного объяснения или чувства сопричастности к абсолютным ценностям, к каким-нибудь «объективным законам» производства прошлого и будущего. На «Винзаводе», как и в «Контриллюзиях» большинство работ обращаются к исторически определенным контекстам, к социальным и политическим явлениям и событиям, происходящем сейчас у нас и в мире. Достаточно обратить внимание на работы Аслана Гайсумова, Ани Титовой, Миши Толмачева, Марианны Абовян, других авторов, чтобы понять что художники осведомлены о природе и действии исторических сил на то, что их окружает. У Титовой — сложное переплетение историй, обозначенное фигурами модернистского революционера и постмодернистского террориста, у Толмачева — сирийские руины, у Абовян — массовые митинги времен Перестройки. Но к образу Истории они свои высказывания не подшивают.
Да и работы, заявляющие о большей отстраненности от инфопотоков, осознанно документируют исторические условия производства и потребления образов в наше время. Например, картина Погоржельского: на первый взгляд почти абстрактная вещь, с другой — рассказ о восприятии мира через цифровые медиа, о том, что несмотря на эволюцию техник производства образа, бьютификацию всего сущего — реальность не имеет лица, образа, она абстрактна, или в широком смысле — безобразна. И этот конфликт между желанием красоты и триумфом безликости инсценируется художником. Историчность может быть и такой; ведь обезличивающие силы без-образного имеют историческую природу.
Короче говоря, вопрос в том, какой историчности нужно требовать и почему.
На ЗИЛе например, историческое лежало на поверхности, а не только в произведениях, это было проще считать.
СГ: При чем там несколько исторических слоев, помимо конструктивизма. Один из них совершенно современный: здание превращается в большой музейный центр, джентрификация. Все эти вещи сразу всплывают, аккумулируются и работают вместе с выставкой.
СШ: Этого эффекта и хотелось достичь. Но проблема еще и в том, что означают все эти слова: «джентрификация» и т.д. Там и работы были об этом, «Свитер» Игоря Чиркина и Алексея Подкидышева, например. В документации, которую я выставил, тоже была эта тема.
СГ: Но, например, на «Винзаводе» параллельно с выставкой происходили скандалы, шумели хоругвеносцы. Это один из фактов истории. Но выставка из этой истории выключена.
СШ: Вот в такие истории не хотелось бы включаться. Мне не кажется, что фундаменталистский флэшмоб это значимая историческая сила. Все-таки важен не столько сам факт, сколько его смысл. Какой смысл в хоругвеносцах? Вопрос оскорбления чувств это вопрос о социальной природе образа. Об этом говорят работы на выставке. Или вы хотите, чтобы все выставки были посвящены сюжету оскорбления чувств какой-нибудь социальной группы? Такое было бы проще наблюдать со стороны — сквозная тема, все само со всем связывается, выстраивается картина мира.
Александр Повзнер, Без названия; объект, найденные материалы
Фото: Галерея 21
СГ: Нет-нет, я не это имел в виду. Спрашивая, я говорю не только от себя, но и выступаю в качестве ретранслятора вопросов, скажем так, «поступающих из зала», то есть озвучиваю основные полемические топики, обсуждаемые в обществе, как бы я сам к ним ни относился. Другой пример. На «Винзаводе» в последнее время произошли разные события. Некоторые галереи закрылись, съехали или переформатировались. Это инстиуционально-историческая проблематика, с которой, в принципе, могла бы работать ваша выставка.
СШ: История арт-рынка как часть большой Истории, почему бы и нет. Закрытие галерей видимо было очень значимым процессом, серьезно повлиявшим на ситуацию в Москве. Хотя с искусством вроде бы не произошло драматических изменений, ни в худшую, ни, возможно, в лучшую сторону. Поэтому не слишком пока понятно, в чем суть этого влияния.
Вообще, я не любитель культуры быстрых комментариев. Не то чтобы это консерватизм с моей стороны, просто быстрый ответ уместен в двух случаях, в сетевой культуре и на кушетке психоаналитика. Там нужно отвечать быстро, чтобы говорило подсознание без цензуры разума. Фрейду была нужна та истина, которую сознание не хочет выпускать в свет. Культура современных коммуникаций, при всех ее чудесных свойствах, дает голос подсознанию. Чем быстрее ты отвечаешь, тем более отвечаешь не ты, а какие-то комплексы, идеологии, предрассудки или иные формации, которые говорят помимо твоего сознания. Поэтому у меня всегда дистанцированное отношение к быстрым комментариям, хотя я знаю, что многие люди считают: «Мир горит прямо сейчас! Нужно что-то сказать, любыми словами, любыми средствами, главное искренне!» Вот эта искренность это, как правило, речь каких-то систем, которые говорят через тебя.
СГ: Выставка в ММСИ «Слова, вещи, последствия» была сильно завязана на, скажем так, лингвистический, вербальный момент. Чья это была инициатива?
СШ: Инициатива изнутри самой ситуации. Мы собирались сделать выставку; составили список художников, и мой коллега Саня предложил объединить это темой языка. Я был за; сам давно хотел сделать выставку с такой проблематикой. Но при этом, для меня про язык это про все, невозможно делать выставку «о языке», рассматривать его как предмет, который художники изучают подобно лингвистам. И я предложил сфокусироваться на языковых дисфункциях, на распаде и переизобретении риторики посредством поражения речевых функций, то есть афазии. Развитие коммуникаций, медиа-среды, социальных техник, открывая пространство непрерывной циркуляции языка, в то же время порождает новые механизмы контроля. Как в социальных сетях, — можно все время говорить, и диалог получается, но нужен постоянный самоконтроль, чтобы было в тему. Требование уместности речи, не как в эпоху классицизма, а подспудно, все равно имеет место. Только сейчас техники контроля намного более компактны, подвижны и эффективны, они пронизывают всю культуру. Новые волны цифровых технологий наносят новые травмы: лет двадцать назад перепроизводство образов выливалось в стремление спрятаться за стереотипами, логотипами, отказаться от собственного лица. Десять лет назад в потемкинскую деревню стала превращаться уже не идентичность, а сама реальность, все эти фасады закрытые баннерами. Так наступила эра афазии. Вслед за речевой нормой стала исчезать способность говорить: люди на улицах рычат и мычат, в каждой книге масса опечаток, дикторы на телевидении все время ошибаются. А некогда на советском телевидении, на всех региональных каналах каждый диктор транслировал строгую литературную норму.
СГ: Да, но там был один большой минус, который стал понятен пост фактум. В сталинские времена литературная норма была заморожена, и когда пришли 1980–1990-е из-за того, что эта плотина стояла и сдерживала живое изменение языка, случился масштабный прорыв, после чего мы имеем, что имеем.
СШ: Скорее, произошла революция, и старая норма утратила властные позиции. Новые социальные отношения породили новые способы говорить, но не литературную норму. Поэтому дискурсы множатся, но в основном обрывочные. В контексте выставки я предложил рассматривать эту их неполноту, то есть афазию как средство производства смысла. Это не молчание, а скорее немая речь, невозможность правильной и хорошо темперированной речи. Это определило характер эпохи, которая началась лет десять назад как неоконсервативная революция по всему миру — бушизм, расцвет неолиберализма, у нас — стабилизация, гламуризация. Мы все являемся отчасти продуктами этого времени, этого триумфального шествия корпоративных идеологий. После ковбойщины 90-х (кольт, конь, пара друзей и грабить поезда в пустыне), очень ясно чувствовалась поступь нового миропорядка. У него были слоганы, например «Shock and Awe», название американского вторжения в Ирак, аwe это состояние немого трепета перед лицом превосходящей силы. Очередной ренессанс военно-промышленного возвышенного, очень характерной вещи для вообще всей культуры нескольких последних десятилетий. Когда возвышенные чувства внушаются не горными пиками и бурлящими пучинами, как у Канта или Шиллера, а просто колоннами танков, крылатыми ракетами, беспилотниками.
В общем, эта выставка скорее подводит некий промежуточный итог этого афатического периода; в этом ее отличие от ЗИЛа или «Винзавода», где больше заявляется о начале чего-то нового.
СГ: То есть выставка в ММСИ представляет из себя своего рода медленный комментарий?
СШ: Это комментарий на то, что можно назвать будущим прошлым настоящего. О культурных силах, которые будут важны и завтра, но начиналось все в 2000-е, ростом структур и корпораций, форматированием речи, стандартизацией социальных связей, включая смайлы и лайки, — всем тем, что и означает корпоративизация сознания. Отсюда и афазия. Если использовать теорию Романа Якобсона, который первым увидел в афазии не психиатрический, а лингвистический феномен, то следует признать афазию машиной когнитивного капитализма. Какой все-таки был острый ум! Он различал два типа афазии и через это посмотрел на искусство. Оказалось что различные направления, — реализм, кубизм, романтизм, сюрреализм — это порождения различных форм афатической речи. Мне хотелось не столько продвинуть искусствоведческие инсайты Якобсона, сколько перенести их в расширенное поле, в котором не только искусство, но и вся реальность состоит из знаковых систем. Когда системы описания мира (в словах, вещах, поступках, образах) сталкиваются друг с другом и не выстраиваются в единую картину. И универсальные нормы будут лишь удаляться от нас. Вот в XIX веке архитектура была вся по ордеру, как нормативное высказывание с подлежащим, сказуемым, обстоятельством. В ХХ веке считается, что надо только высказать подлежащее, — функцию. В постмодернистской архитектуре, которая, в общем, здравствует и сейчас, все перемешано в кашу, чтобы выразить невыразимое, желание заказчика.
Интересно в этом свете посмотреть, как наши и американские художники трактуют лингвистические явления: не только в словах, но через образы, вещи, пространства, атмосферы. На выставке возникают различные тональности, например, саркастически-игровая, или серьезные исследования материализованных языковых форм.
Александра Сухарева, Ядро дня; инсталляция
Фото: www.v-c–a.com
СГ: Интересный момент был связан с тем, что туда попал Борис Гройс. По умолчанию мы понимаем, что тот, кто назовет себя художником, тот художник, но все же Гройса мы больше воспринимаем в другой роли. Это было несколько неожиданно, хотя работа, судя по данным с выставки, 2007 года.
СШ: Здесь дело не всегда в институционально утвердившихся имиджах и ролях. Да и чем роль художника отличается от роли например теоретика, если отрешиться ненадолго от привычек восприятия, не так уж понятно. Участие Бориса Гройса стало заслугой активизма и моего со-куратора Сани, который пошел к Абаю, познакомился с Гройсом и попросил его написать статью о выставке. Он отказался, но сказал, что может предоставить работу. Саня спросил, что я об этом думаю; мне показалось, что это интересно и довольно весело. Решил, что это хорошо дополнит происходящее на выставке.
СГ: Нет ли опасности, что шлейф из сложившегося образа человека мешает воспринимать Гройса как художника?
СШ: Я замечаю за собой, что сторонюсь стереотипов; может быть это можно было почувствовать, когда мы говорили о корпоративном сознании. Наверное, это связано с тем, что стереотипные взгляды на то, что делаю я сам, вообще никак не соответствуют действительности. Понятно, что Гройс значительный мыслитель, но быть таковым — крайне серьезная вещь. Это, кстати, тоже сильно отличается от любых стереотипов.
А с другой стороны, ведь хорошо говорить на различных языках, раскрывать свой потенциал. В желании расставить всех по «своим местам» есть застарелый классицизм нашей культуры: пускай будет стабильность, а не сложность, пусть каждый займет, как в конфуцианской системе, свою нишу. Счастливый сапожник будет делать сапоги и не стремиться к чему-то еще.
СГ: Недавно в разговоре со знакомыми журналистами я обсуждал такое мировосприятие. Мы договорились до того, что такое метафизическое и иерархическое соотнесение каждого со «своим местом» совпало в современном сознании и в нашей действительности с маркетинговой логикой рыночных ниш. И потому эта система мышления кажется такой мощной и непоколебимой. Понятно, что мы можем не соглашаться со стереотипами, но с ними нужно что-то делать в таком случае. Если задача состоит в том, чтобы показать Гройса как художника, то, вероятно, нужно создать определенные условия, чтобы как-то обойти стереотип.
СШ: Условия должна создавать сама работа. В искусстве все решает само произведение, другой вопрос — где оно заканчивается. Все-таки, стереотипы, предрассудки, — это существует и само по себе, но когда ты приходишь на выставку, то вникаешь в работу, понимаешь ее или нет, обретаешь опыт или нет. Но вот если понять то, что говорит Гройс этой работой, то и клише бы не так давили на восприятие. Там как раз философский анализ растворения авангардного импульса в масскульте.
Если устаревшее требование взаимно-однозначного соответствия социальной роли и персонажа совпало в нашей ситуации с логикой рыночного позиционирования, то это тем более симптоматично. Ведь здесь рынки часто развиты намного слабее, чем в более процветающих частях мира. А там как раз сейчас есть четкое понимание, что стратегии капитализма зашли в тупик. Уже несколько лет вся евробюрократия только и думает, как создать условия, чтобы максимально освободить потенциал человека. Чтобы европейцы имели все возможности и мотивы делать что-нибудь новое, пусть непонятные, непривычные вещи, хоть что-нибудь; отсюда такая поддержка всякой креативности. Потому что все известные модели отработаны; если техника будет развиваться автономно от людей, все кончится как обычно — неконтролируемыми конфликтами. Последний рубеж — снова сам человек, причем становится все менее понятно, что это такое. «Знать свое место» в таких условиях контрпродуктивно: нужно искать новые формы обмена, коммуникаций, связей между вещами и смыслами. Не ради абстрактных принципов, а для выживания. Ослабевает это напряженное внимание к классификациям — художник ты, теоретик или кто-то еще. Побеждает проектное мышление, а не утвержденные статусы, потому что очень нужно новое.
СГ: Про российскую ситуацию говорят, что здесь маленькое арт-сообщество. Мало художников, мало кураторов, мало всех. Есть мнение, что нужно больше, иначе среда застаивается. Нет не то чтобы конкуренции, а благотворного соперничества.
СШ: У нас тоже бывает жесткая конкуренция. Во благо она или нет — отдельный вопрос, но когда сталкиваешься с тем что происходит в так называемых мировых художественных центрах, то это несравнимо. В Нью-Йорке и Лондоне, в принципе, происходит карьерная мясорубка; если в 25 лет у тебя нет контракта с галереей, до свидания, можешь менять профессию. На их фоне здесь просто такой довольно сонный полустанок в евразийских степях, кто-то засыпает, кто-то просыпается, все всех знают. Вне арт-мира у нас если не культурная пустыня, то именно что степь, что-то растет, но не густо, формы жизни малочисленны. А «там» по напряжению, включая и конкуренцию, уже почти на уровне шоу-бизнеса. Плюс еще кризис последних лет, когда закрылась чуть ли не треть галерей в одном только Челси; при этом производство художников арт-школами растет. Само по себе много художников хорошо, но все вместе эти условия усиливают противоречия. Идет мощный напор со всех сторон.
Михаил Толмачев, Забытые города Идлиба; найденные видео, фотографии, цифровая печать
Фото: Галерея 21
СГ: Пример Берлина показал, что это не всегда оправданно.
СШ: В Берлине стало больше художников, чем нехудожников. Можно, конечно, друг у друга покупать работы, обмениваться. Поэтому теперь в Берлине новый тренд: заводить себе садик, чтобы не бесноваться и грызть горло своему ближнему, а сидеть и копаться в земле — так по-бойсовски, терапия капиталистических неврозов.
С другой стороны, очевидно, что наша арт-сцена недостаточно развита. Три с половиной галереи, ярмарки, которые пытаются за что-то бороться… Наверное, чуть больше художников и кураторов не помешало бы. Но есть другая проблема: во всем мире царит довольно страшный дух преклонения перед системами. Можно говорить об оппортунизме или карьеризме, но это лишь аспекты этой веры в системы власти-знания. Желание раствориться в них и питает карьерную бойню в глобальных центрах. В наших условиях не хватает не волшебной «невидимой руки» конкуренции, а того, что можно назвать культурой искусства — интерес плюс понимание в широких общественных кругах. Когда это будет, то и множество новых людей появится. Хотя, в любом случае, наш арт-мир должен развиваться, чтобы работали все необходимые институции. Хотя каков нормальный арт-мир — бессмысленный вопрос. Искусство еще дальше от понятия нормы, чем другие сферы.
СГ: Я не про менеджерские структуры, как раз наоборот — про людей. Хотя со структурами тоже интересно. Последние годы большие проекты разрастаются, увеличиваются, что-то покупают, а маленькие умирают, сокращают свою активность. В этом смысле объединение художников даже не в группы, а в какие-то круги, выглядит вполне логичным. В одиночку не выжить. Мясорубка тоже есть, понятно, что не такая, как в Нью-Йорке, но все же.
СШ: Усиления мясорубочного режима не очень бы хотелось. Я думаю что выжить в одиночку вполне можно, все равно художники ведь всегда друг с другом общаются так или иначе. Просто проектный способ производства подразумевает взаимодействия, синергию между людьми. При этом и системы, институции крайне важны. Тот же «Винзавод» или, например, «Гараж» сделали массу очень значительных вещей, задали стандарты и открыли целые направления для развития.
СГ: Мне кажется, их деятельность часто можно понимать так же, как Маркс понимал деятельность Британской империи в Индии. Они объективно разрушают мелкие, «нерентабельные» инициативы, но при этом в некой исторической перспективе, расчищая пространство, они создают условия для возникновения чего-то нового. Это отчасти циничная логика, за которую Маркса ругали, но она работает.
СШ: Не думаю что арт-институции разрушают что-либо. Что до Индии, то при всем уважении к мысли Маркса, он обычно рассуждал в евроцентристской, колониальной по сути перспективе. Логика хоть и циничная, но не работает, это просто удобное оправдание. Атомная бомба тоже все расчищает. Тут дело в другом: с точки зрения систем, вообще не существует цинизма или не-цинизма, только операбельность.


Стас Шурипа, Палеонтология повседневной жизни; объекты
Фото: www.v-c–a.com
СГ: Да, эти большие структуры от противного заставили тех, кто занимается чем-то альтернативным, скажем так, зачесаться и начать действовать. Одно время было много квартирных галерей, выставок в чебуречных, но именно теперь, когда делать подобные вещи становится все сложнее, они обретают истинную ценность. Появляется цель, необходимо усилие, чтобы преодолеть сложности и давление. Есть некий прогрессивный момент в этом.
СШ: Года три-четыре назад был другой общий фон: была мэйнстримная культура, образ относительно единого общества. Было важно заявить позиции, отличные от той гегемонии, которая складывалась. Сегодня барьеры и разломы выросли, согласия меньше. И заявленные тогда позиции проходят проверку на адекватность изменившимся условиям.
Но в принципе, цель, преодоление, прогресс, — это такая лексика Айн Рэнд, буря и натиск. Когда мы говорим «обретают истинную ценность», то как будто от имени абсолюта — и ценность устанавливаем и сертификат истины сразу выдаем. Но для кого это ценность? Все ли согласны, что она истинна? И часто это лишь эмотивизм, как говорил философ Алистер Макинтайр, — такое постмодернистское проклятие, когда все ценностные утверждения выражают не истину, а только состояния и чувства говорящих.
На самом деле, есть фактор невписанности искусства в культуру доступную широким слоям. Но это вопрос к самой культуре, которая у нас довольно инертна, у нее не развиты органы понимания того что делается в экспериментальных областях. Форма реальности, которая у нас складывается, не заточена под восприятие нового, скорее имеет место воля к дежа-вю, готовность видеть только бренды и из них еще и выбирать самые «проверенные».
И здесь уже непонятно что значит вопрос о социальной роли искусства? Если общественный идеал — не улучшать мир, а вмерзнуть в какой-нибудь уютный образ из прошлого и забыться, то искусство не нужно. Тогда ему надо придумывать роль — чтобы было полезным или развлекало. И наступает очередная смерть искусства в усталом массовом сознании. Потому что нет общей презумпции, что искусство важно само по себе, не для чего-то еще. Здесь и есть нерв. Видимо, это один из признаков исторического поражения общества, если, конечно, мы чувствуем преемственность с нашим прошлым. И это сильно отличается от той же западной ситуации, где всем, и крупным и мелким буржуа уже двести с лишним лет с детства постоянно разъясняется что искусство — это такая особая территория, где риск и поиск важны сами по себе, по контрасту с бездушной эффективностью прогресса и техники. Художник может быть каким угодно, но, идя на риск потратить свою жизнь впустую, он искупает грехи нацеленного на результаты общества. Закону, по которому в колониях умирали рабы, а в конторах считали бухгалтеры, был положен предел на территории искусства, отбитой у мира художниками, где они могли хоть на ушах стоять. И глядя на это, человек чувствует себя свободнее. Вот этого сознания и нет, а остался ленинский сарказм, что художники марионетки буржуазии. Так тоже можно взглянуть, но чтобы эту критику понимать, надо все-таки уже быть просвещенным человеком, обладать навыками восприятия художественных экспериментов. Все-таки думаю, у нас есть адекватные мировым стандартам художники, кураторы, арт-менеджеры — мы дышим тем же воздухом, что и в развитых обществах, но в части базовых культурных предпосылок — все довольно запущено. Остается только самим на это работать, не пугаясь пустот в реальности.
Аня Титова, Нестабильные идеи; скульптура, найденные материалы
Фото из архива художника
Материал подготовил Сергей Гуськов
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.