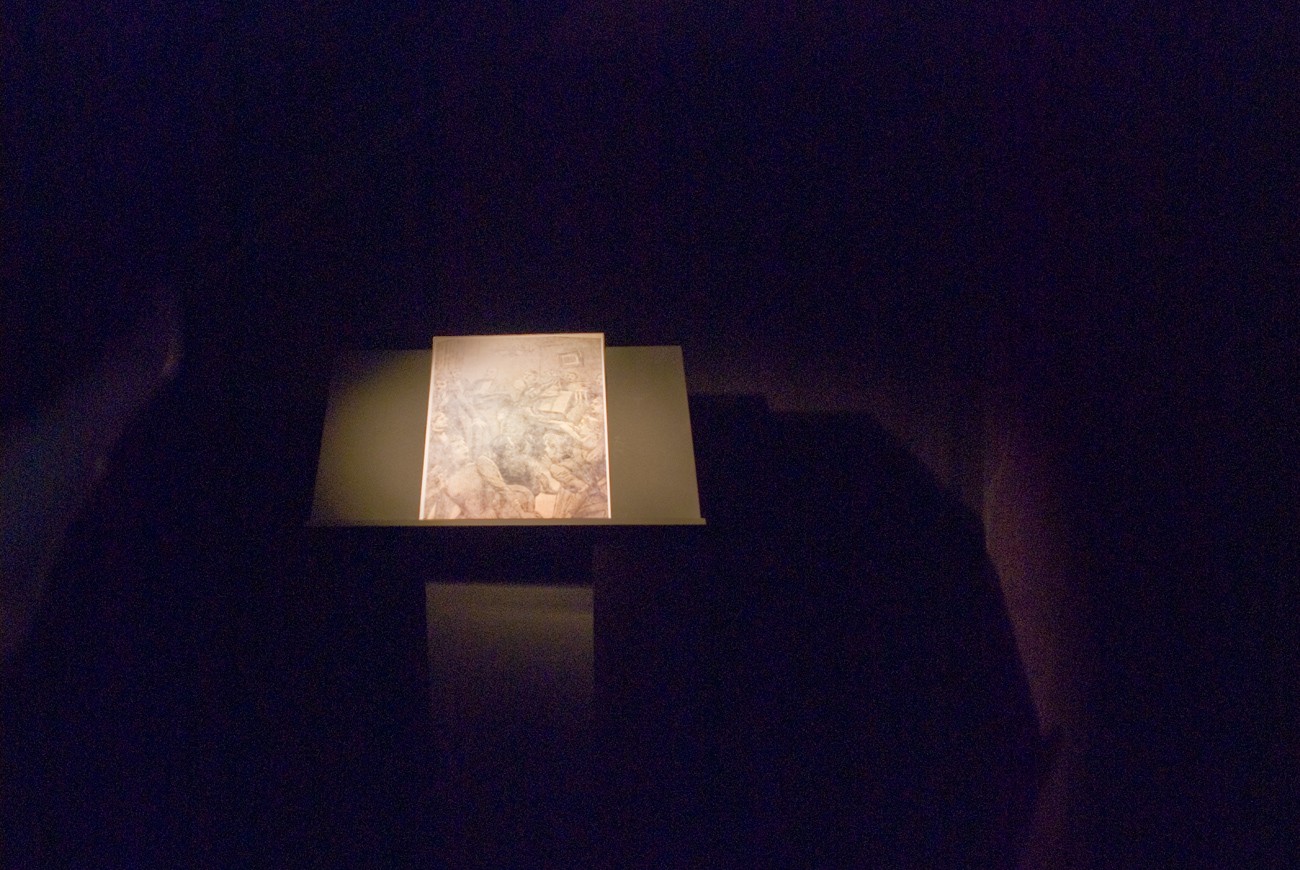Илья Будрайтскиc и Мария Чехонадских: конспирология в теории и на практике
Кураторы выставки «Тень сомнения» в Музее «Гараж» Илья Будрайтскис и Мария Чехонадских рассказали в интервью Катерине Белоглазовой о бытовании теории заговора на постсоветском пространстве и ее авангардном потенциале.
Кураторы проекта «Тень сомнения» в Project Space Музея «Гараж» (11.04 — 02.05/2014) Илья Будрайтскис и Мария Чехонадских о своей выставке.
Фото: Ольга Данилкина
Кураторский проект, подготовленный Ильей Будрайтскисом и Марией Чехонадских, получился многосоставным и сложным. Представленные произведения (среди авторов — Алексей Булдаков, Кристина Норман, Александр Повзнер, Давид Тер-Оганьян, Николай Ридный и группу Zampa di Leone) складывались в определенный нарратив — от первого номера к восьмому и последнему. Дополнением выступил аудиогид «Маршруты сомнения» — восемь текстов на английском и русском языках, призванные погрузить зрителя в мысли о заговорах. Кураторы выставки, давно изучающие конспирологию с разных сторон, рассказали в интервью Катерине Белоглазовой о бытовании теории заговора на постсоветском пространстве и ее авангардном потенциале.
Катерина Белоглазова: Я слышала, что вы готовили этот проект три года. Как он зародился, как развивался и почему был реализован именно в этом пространстве?
Мария Чехонадских: Действительно, в основе выставки лежит наша исследовательская работа, которую мы начали много лет назад. Однако саму выставку мы подготовили всего за полтора месяца, и большинство наших наработок не вошло в экспозицию. Мы не придумывали этот проект специально под конкретную площадку, скорее мы неспешно занимались исследованием. Для «Гаража» мы практически полностью переделали содержание проекта, многое было придумано с нуля, поскольку пространство (простой white cube) задавало свою специфику. Это естественно — абстрактный исследовательский проект всегда трансформируется в условиях конкретного места. Приходится думать, как твоя идея может быть наилучшим образом выражена и какими средствами. Наше исследование на этом не закончилось и данной выставкой, безусловно, не ограничивается.
Я хочу отметить, что наш общий интерес к конспирологии имеет разные исследовательские формы. Илья занимается исторической частью проекта. Он проделал огромную работу, изучая историю возникновения и развития теорий заговора, а также осмысляя, как и почему различные исторические события начинают восприниматься с точки зрения теории заговора. Меня интересовала та же самая проблема с точки зрения истории искусства. Какие формы может принимать теория заговора и каким образом она может быть выражена в художественном мышлении? Что общего существует между критикой и конспирологией?
Интерес к заговорам начался с наших эмпирических наблюдений за развитием местной системы искусства. Я долгое время занимаюсь изучением феномена неформальных отношений как в искусстве, так и в целом в постсоветском обществе. Неформальные отношения — это социальные отношения, в основании которых лежат внеинституциональные формы и правила взаимодействия между членами общества, такие как личная зависимость или клановость. Неформальные отношения всегда возникают в переломные исторические моменты, когда разрушаются традиционные общественные структуры и институты. В рамках таких отношений не работают законы, они держатся на неписаных и негласных правилах, которые трудно понять. Они создают плодотворную почву для теории заговора.
Илья Будрайтскис: Для меня давний и устойчивый интерес к конспирологии связан, наверное, не столько с аспектом неформальных отношений, но в первую очередь с ощущением, что конспирология сегодня является доминирующей матрицей сознания на постсоветском пространстве и, шире, на международном уровне. Конспирологический способ объяснения событий становится своего рода идеологией, которая обеспечивает определенный тип политической культуры неучастия, недоверия. Эта культура связана с распадом социальных отношений, тех оснований для солидарности, о которых говорила Маша. То есть конспирология как идеология связана, с одной стороны, с неолиберальным капитализмом, но, с другой, имеет более глубокую и продолжительную историю, чем тот порядок вещей, который мы называем неолиберализмом. История конспирологии — и это, кстати, интересно, потому что из знаменитой фразы Маркса из «Немецой идеологии» мы знаем, что «идеология не имеет истории» — конспирология обладает собственной историей, хронологически практически точно совпадающей с историей Нового времени. Конспирологический способ интерпретации событий является ровесником эпохи массовой демократии, эпохи, которая открывается великими революциями XVII-XVIII веков.
Теория заговора является, вероятно, одним из самых популярных до сих пор способов осмысления и реакции на подобные массовые волюнтаристские вторжения в историю. Отправная точка любого конспирологического взгляда состоит в том, что никакое событие не может быть произведено самими людьми по их собственной воле, то есть, опять-таки вспоминая знаменитую фразу Маркса из «18-го брюмера Луи Бонапарта» о том, что люди «сами делают свою историю», для конспиролога люди не делают свою историю сами, а являются марионетками в руках неких сил, которые всегда находятся за кулисами. Такое сознание в какой-то степени совпадает с консервативным подходом, потому что политический консерватизм тоже исходит из посылки о Провидении, которое стоит по ту сторону от человеческих желаний и предопределяет действия людей, даже тогда (и особенно тогда), когда люди сами вызывающе и агрессивно отрицают веру в Провидение как архаичный и демобилизующий предрассудок. Однако, конечно, не стоит считать конспирологию разновидностью консерватизма. Консервативное Провидение (например, у де Местра) господствует над человеческой волей не потому, что оно непознаваемо, но выступает как нечто, что в принципе не может быть произведено самими людьми. Речь идет именно о чем-то, стоящем над человеком вообще.
Для конспиролога же наивному революционному волюнтаризму противопоставляется идея «тайной пружины», скрытого меньшинства, подменяющего собой видимые центры власти и способы принятия решений.
Конспирология, таким образом, представляет собой продукт демократии в гораздо большей мере, чем консервативная реакция на демократию. Логику заговора можно разгадать и понять, но такое понимание неизбежно приводит нас к пониманию тщетности любого сопротивления.
Конспиролог всегда обладает крайне пессимистическим взглядом на историю. Заговор нельзя победить, но однажды обретенное знание о нем навсегда лишает покоя. Знающий о «заговоре» никогда не сможет жить с этим знанием в одиночестве — он постоянно стремится обратить в свою веру окружающих. Эта миссия, однако, не предполагает, что распространение конспирологического знания может что-то и вправду изменить.
Это справедливо и для масштабных конспирологических нарративов, и для того, что можно назвать «бытовой конспирологией», обосновывающей любой тип политического невмешательства.
Например, почему не стоит выходить на какой-нибудь там митинг? Потому, что те, кто выходит на митинг, — это наивные барашки, которых используют вслепую. Получается, что человек, который не выходит на митинг, согласно конспирологической интерпретации, обладает более высоким уровнем сознания, информированности, чем тот человек, который на митинг выходит. Его решение о неучастии является не просто следствием опыта, но следствием сознательного отказа от получения любого подобного опыта. И вместо аргумента «я ходил на митинги, но это ни к чему не приводит…», такой человек скажет: «да, я не ходил на митинги, потому что я давно купил в магазине такую-то маргинальную книгу, и она мне дала объяснение, гораздо более полное, чем любой опыт».
Собственно, поэтому мы сталкиваемся с конспирологией каждый день, это наша суровая реальность, которая стала настолько привычной, что по умолчанию мы научились ее принимать и понимать. Практически каждый случайный разговор о политике чреват столкновением с той или иной конспирологической моделью. Конспирологическое сознание в известной мере универсально, но почти в каждой стране конспирологическая культура имеет свою специфику. Например, США — крупнейший центр производства разного рода конспирологических концептов. И именно в США появляется разработанная позитивистская школа критики конспирологии, которая объясняет ее как психологический дефект, болезненное желание увидеть и сделать центром интерпретации нечто стоящее за пределами проверенных и признанных фактов.
КБ: Паранойя?
ИБ: Да, точно. Даже одно из классических исследований конспирологии так и называется: «Параноидальный стиль в американской политике». То есть это такая реакция сломанного сознания маленького человека на сложность общественно-политических явлений. Но при этом, когда начинаешь вдумываться в это объяснение, то понимаешь, что на самом деле эта критика является мощным орудием, направленным против любого типа недоверия. Есть набор фактов, и все, что выходит за их пределы, криминализируется и объявляется психическим отклонением, и, с этой точки зрения, либеральные исследователи относили к конспирологии и марксистскую теорию империализма, на том основании, что реальные территориальные споры между двумя государствами объясняются «больными на голову марксистами» как выражение скрытого конфликта интересов капиталистических и корпоративных групп. Таким образом, например, теория империализма приравнивается к теории «зеленых человечков», тайно вступивших в сговор с правительством Эйзенхауэра. Они становятся в равной степени маргинализированными, исключенными теориями. Известно, что верным маркером политического безумия в США принято считать отрицание официальной версии убийства Джона Кеннеди. При помощи криминализации сомнения этот важнейший факт американской политической истории прочно защищен от любых — и чаще вполне справедливых и обоснованных — сомнений в истинности выводов «комиссии Уоррена», свалившей всю вину на одиночку Освальда. Эта криминализация, на мой взгляд, является не менее опасной, чем вирусное распространение конспирологической веры в самых разных ее изводах. Как отличить миф о заговоре от разгадки тех заговоров и закулисных игр элит, которые существуют на самом деле и тщательно скрываются?
Собственно, на этой очень тонкой грани и проходит то отношение к конспирологии, которое, как мне кажется, должно быть выработано: 1) иногда заговоры действительно имеют место быть, и их развенчание не должно считаться чем-то неприличным и недозволенным; 2) право на сомнение существует и должно быть признано безусловным демократическим правом (даже если сомнению подвергнута сама демократия) ; 3) Сегодня это право искажено и отчуждено в капиталистическом обществе, потому что конспирология, являлась ровесником массовой репрезентативной демократии, точно также являлась спутником и ровесником капитализма. Это очень краткое и фрагментарное изложение достаточно пространного размышления, которое стоит за нашей выставкой. И для нас было важно проследить за этим в диалоге с искусством потому, что искусство тоже наполнено конспирологическими сюжетами на самом разном уровне.
КБ: В аннотации к выставке вы пишете, что искусство «имеет родство с конспирологией, но стыдится признать своего бедного родственника». Эта ситуация характерна для современного искусства как такового или это его ситуативная черта, возникающая в определенных условиях? Что это означает в российском контексте?
МЧ: Занимаясь изучением конспирологии, мы, прежде всего, думали о нашей повседневной московской реальности. Глядя на то, в каких условиях здесь производятся выставки и какие это выставки, мы заметили, что чаще всего имеем дело с проектами двух типов. Во-первых, иллюстративные выставки. Подбирается определенный набор работ напрямую демонстрирующих концепцию. Мой любимый пример — выставка «про тело». На такой выставке вы обязательно увидите холст, где будет изображено тело, а потом еще объект, где вы тоже увидите репрезентацию тела в том или ином виде.
КБ: Это реально существующая выставка?
МЧ: Это условный пример, но мы можем себе представить огромное количество таких выставок. С другой стороны, на поле социального и политического искусства существует такая тенденция: делать выставки с лобовым политическим высказыванием — развесить флаги, нарисовать пару лозунгов, имитировать такой «пролеткульт». Это выглядит очень провокативно и как раз соответствует политизации определенного круга художников. Но мы подумали, что нам не интересен ни один, ни другой тип выставок. Если представить себе не профессионала-искусствоведа или активиста, а обычного человека, который приходит на выставку, то соседство с красным флагом и портретом Маркса на пол стены его как минимум раздосадует. Раз уж мы говорим о политическом или активистском искусстве, с одной стороны, и кураторской проблематизации тех или иных феноменов, с другой, то нам интересна не репрезентация «тела» или «Маркса», а критика.
Сам феномен критического искусства, который возник в 60-е годы и затем обсуждался все последующие декады в искусствоведении, теории и художественной практике, далеко не всегда соответствовал (и соответствует) подобному прямолинейному типу высказывания. Существует такой тип критики, который отталкивается, например, от наблюдения за повседневной реальностью. Можно сказать, что это критическое искусство, но оно не утверждает некую истину, не подводит к определенным выводам и не занимается пропагандой. Оно может создавать ситуацию дискомфорта и тревоги, создавать некий третий смысл или моделировать антропологическую, социальную и политическую ситуацию. В основе критического искусства, которое нас интересует, могут лежать исключительно субъективные эмоциональные переживания, но если это «наблюдающее» искусство, оно, как правило, сохраняет дистанцию по отношению к тому, что исследует. Внутри такого подхода личное становится частью осмысления политической реальности, и здесь, кстати, мы часто сталкиваемся с самоиронией в искусстве.
Примером одного из таких критических методов в искусстве могут быть работы Николая Ридного, которые были представлена на нашей выставке. Его видео «История отца» представляет собой видеосъемку экскурсии в погребе. Знакомый всем погреб с соленьями обретает свою историю. Становится очевидной его связь с травмами холодной войны, эпохой приватизации и постсоветской бедной жизнью в целом. Семья 30 лет копит консервы в погребе «на всякий случай», но нам не смешно и мы не смотрим свысока на владельца погреба, мы не критикуем его «наивное мышление». Такое искусство отталкивается от субъекта, то есть оно не пытается объективировать то, что видит. Анализ субъективности или общественной ситуации становится для такой работы центральным. В этом смысле данный тип критики часто сближается с конспирологией. Однако критика, в отличие от конспирологии как лженауки никогда не стремится утвердить истину, она оставляет зазор, открытость, и возможность посмотреть на то или иное событие просто с другой точки зрения. Нам показалось интересным сопоставить эти два типа мышления — художественное и конспирологическое, и мы нашли в них общий корень — сомнение. Мы не случайно выбрали для выставки работы из постсоветского региона. Для постсоветского искусства конспирология как форма мышления оказывается очень продуктивным «со-автором». На примере с Ридным мы видим и дополнительные политические смыслы, которые эта работа приобрела в сегодняшних политических условиях.
КБ: В пространстве выставки за счет самой архитектуры экспозиции, кураторского решения пространства создается ощущение тревоги, неуверенности и угрозы. Галерейный зал разделен на «закутки», проходы блокированы холодными, неуютными, отсылающими к коллективной памяти тоталитаризма, «игровыми снарядами» из «Детской площадки» Александра Повзнера. Почему для вас важно было передать это ощущение тревоги и скованности?
МЧ: Нам казалось, что в сегодняшней социально-политической обстановке, когда вновь создаются какие-то странные разделения людей на друзей и врагов, возникают все новые и новые теории заговоров, закручивается новый виток криминализации протеста, «неуютность» и «удушливая атмосфера» становятся доминантами нашего повседневного существования. Во всех аспектах нашей реальности чувствуется эта удушливая атмосфера, нам важно было передать это ощущение.
КБ: Но почему конспирология приобрела такую актуальность именно сегодня, хотя, казалось бы, пик распространенности этого типа мышления должен был прийтись на 1990-е годы? Мы наблюдаем афтершок 90-х?
МЧ: Что касается 90-х, как правильно сказал Илья, конспирология возникает в эпоху Нового времени. Что такое эпоха Нового времени? Это рационализм, это тот самый апофеоз культивации знаний, картезианского познающего субъекта, вокруг которого центрирован весь мир. Это, кстати говоря, начало капиталистической эпохи. Но, на самом деле, капиталистическая система, часто противоречит своему просвещенческому пафосу. Декларируя, что все можно познать и во всем можно участвовать, она откровенно врет. Скажем, массовая демократия декларирует формальное равенство, но оно, на самом деле, не закрепляется в реальных политических установлениях и практиках. Именно на фоне рационализма возникает то самое конспирологическое сознание, неуверенность в установленном порядке вещей. Я бы даже радикализовала этот тезис: конспирология имманентна капитализму, пока существует капитализм с усложненной системой социальных отношений, с декларированным формальным равенством, но по факту чудовищным социальным и экономическим неравенством, до тех пор будет существовать конспирология. В этом отношении интересно использование приемов конспирологии отдельными государственными или политическими акторами. В нашем кураторском тексте мы говорим, что 90-е, по сути, стали эпохой первоначального накопления и весь этот процесс, сопровождающийся насилием, был покрыт тайной и мраком. Например, было не понятно, почему вчера какой-то человек маргинального вида, который ходил в штанах «адидас» около завода, через три года становился директором этого завода, а сегодня уже управляет городом? Конечно, 90-ые были периодом расцвета конспирологии, и, на самом деле, в 2000-е создавался миф о том, что эта эпоха закончилась, все социальные и классовые структуры сформировались и «сейчас мы живем в эпохе стабильности», но мы должны помнить, что сама «эпоха стабильности» началась Чеченской компанией и взрывами домов. Все эти процессы балансировали на удержании мифического «благополучия». Нам ультимативно предлагали выбирать между хаосом, в который мы можем вернуться очень быстро или нормализацией этого хаоса, то есть «стабильностью». Все это сопровождалось колоссальными катастрофами, можно вспомнить затонувший «Курск» и многое другое. Отсутствие объяснений, почему это происходит в новой парадигме «стабильности», продолжало порождать различные конспирологические теории. Они никуда не делись, и очаги этого хаоса то затухали, то разгорались с новой силой, поэтому говорить, что мы радикально перешли в другую эпоху, и она каким-то образом совершенно снимает 90-е годы, я бы не стала.
ИБ: Да, если говорить о взрыве народной конспирологии, то в постсоветские 1990-е ее было гораздо больше, чем сейчас. Если мы посмотрим на ментальную карту новой демократической России, то увидим потрясающий подъем конспирологического творчества снизу, огромное количество самых разных версий развала Советского Союза, представлений о российском правительстве, агентах влияния и так далее. То, что происходит сегодня — это не афтершок и не возвращение конспирологии, а монополизация конспирологической идеологии. Государство превращает конспирологию в своебразную «национальную корпорацию», которая упорядочивает и отсеивает все лишние элементы органической постсоветской конспирологии, которая в головах людей живет с начала 1990-х годов. А включенные в новый канон государственной конспирологии элементы массового сознания, в свою очередь, отражают какие-то руинированные элементы советской государственной конспирологии времен Холодной войны.
КБ: Но, кажется, государственная пропагандистская машина даже не скрывает, что в основе ее информационной политики — конспирологический миф. Настолько явно те заговоры, о которых мы слышим с экрана, маркируются как «антироссийские заговоры» тем же Дмитрием Киселевым.
ИБ: Да, это очень хорошо испытанное оружие эпохи Холодной войны, и расцвет конспирологии приходится, прежде всего, конечно, в Западном мире, но отчасти и в Советском Союзе, именно на послевоенные десятилетия. Эта структура заговора, которая задается сверху, включает в себя существование большого внешнего врага и малого скрытого внутреннего врага. Такое сочетание внутренних и внешних врагов является, в общем, уже классическим механизмом построения вертикали доверия к правительству со стороны собственного населения, так что в том, что делает Киселев, нет ничего оригинального.
КБ: Вы пишете про авангардистский потенциал конспирологии, в чем он?
МЧ: Авангардистский потенциал конспирологии, это конечно ироническая фраза, но по большому счету он заключается в творческом потенциале таких форм мышления. Он возникает, когда мы сталкиваем их с произведением искусства, показывая, что конспирология — это не маргинальное экзотическое явление, на самом деле даже внутри «рафинированного» (если вообще можно делать такую оппозицию — мы считаем, что нельзя) художественного сообщества, те же самые мифы и формы конспирологического мышления существуют. Вот, например, у нас была работа группы Zampa Di Leone. Группа делает карикатуры на разнообразных деятелей интернационального арт-сообщества. В ней был заложен огромный критический потенциал, но, по факту, он основан на той же самой форме конспирологического мышления. Группа носит маски и остается анонимной. А почему она это делает? Да потому что сама участвует во всех этих выставках, берет деньги у тех же самых институций, знает всех тех людей, которых изображает в своих карикатурах. Мы пытались показать, что мы все подвержены конспирологическим аффектам, сами, скажем так, не без греха. И Zаmpa Di Leone, в этом смысле, хороший пример, который как будто говорит: «мы хотим и покритиковать, и выставку сделать, и деньги получить».
Для нас нет разделения между, скажем, народным, особо выделенным конспирологическим сознанием, над которым можно посмеяться и сказать: «бывает такая экзотика». Не надо делить общество на прогрессивную интеллигенцию и быдло, чья субъективность формируется исключительно пропагандой. Мы показываем, что есть определенные условия, которые порождают такой тип сознания, есть разные его варианты. А потенциал какой? Потенциал может показать искусство, которое является частью этой реальности и тоже подвергается аффектам конспирологического мышления. Приведу другой пример. Работа «Монолит» Кристины Норман посвящена истории демонтажа советского памятника в Таллине. Эта история рассказывается с двух противоположных точек зрения. Сначала мы видим кадры государственной эстонской пропаганды, затем, российской. Кристина Норман выстраивает отношения дистанции и показывает, что обе стороны говорят откровенную ложь. С этой же точки зрения показана реакция эстонцев. Одни предпочитают почитать монумент, а другие хотят его разрушить. Кстати, для меня как раз эта работа является смысловым центром выставки. Она сделана очень эффектно: в ней сочетаются документалистика, сайнс-фикшн, манипуляция с медиа изображением, звуком и музыкой.
ИБ: Я уже говорил, что мы пытаемся задать сложное отношение к конспирологии. Я вижу авангардистский потенциал в том, что человек, который делает выбор в пользу конспирологии уже совершает как бы первый шаг в сторону от полного удовлетворения действительностью, то есть это уже немного «бракованный» гражданин. Гражданин, который уже не готов принимать на веру все, что ему говорят и все что его окружает.
КБ: Первый шаг уже сделан?
ИБ: Да, мне кажется, что в этом шаге есть очень много важного и ценного. Другое дело, что этот шаг является абсолютно недостаточным, и в нем не заложено никакой гарантии того, что будет сделан следующий шаг. На самом деле, остановка на этом первом шаге может быть гораздо опаснее, чем ситуация, в которой этот шаг вообще не был бы сделан. Поэтому, с одной стороны, мы говорит о праве на недоверие, с другой, стороны, наша позиция безусловно является позицией активистской, основанной на том, что люди в состоянии менять существующую реальность, в том числе, вскрывая, «расколдовывая» эту реальность и показывая, что стоит за тем, что нас призывают опознавать как единственно возможное реальное.
КБ: Сегодня в современном искусстве явно чувствуется тенденция критики самого критического высказывания. Самый яркий из недавних примеров — выставка Арсения Жиляева «Спаси свет», где осмыслялась сама возможность существования критического искусства в нынешних общественных условиях. На мой взгляд, в вашей выставке эта тенденция «критики критики» тоже присутствовала, хотя и была взята немного в другом ракурсе, как критика конспирологической критики. Ориентировались ли вы намеренно на эту тенденцию и ощущаете ли вы, как кураторы, потребность в том, чтобы сместить акцент на осмысление самого критического высказывания?
МЧ: Действительно, ряд западных критиков и кураторов стали говорить о том, что сегодня невозможно говорить о критике, в том числе институциональной. Даже концептуализм сегодня продается за большие деньги и поэтому нужна какая-то новая парадигма, которая станет «критикой критики», то есть некая интеллектуальная процедура критики самого этого критического искусства или же художественной критики. Наша выставка находится немного в другом контексте, я не уверена, что она связана с этим.
КБ: Но и там и там есть важный мотив недоверия к критике?
МЧ: Ты имеешь в виду, что у Жиляева вообще недоверие к искусству?
ИБ: Нет, у Арсения, как мне кажется, не столько недоверие к искусству, сколько сомнение в действенности искусства за его собственными пределами. Мне очень понравилась «Спаси свет», но мне кажется, наши выставки слабо друг с другом связаны, потому что мы говорим о таких структурах мышления, которые выходят далеко за пределы искусства, то есть наша выставка, если можно так считать, вообще междисциплинарна — в ней не ставятся проблемы, которые принадлежат исключительно к территории искусства или наоборот, которые лежат исключительно за пределами его территории. Мы говорим о достаточно универсальных социальных вещах, которые связаны с современным человеком вообще, включая искусство и другие сферы реализации этого человека. Кстати, кураторские интервенции, которые мы производим, должны также подвигать к той мысли, что эта выставка совершенно не предназначается тем, кто пытается думать о художественных стратегиях. То есть о них нужно думать, но просто мы чуть-чуть о другом хотели поговорить.
КБ: Благодаря кураторским интервенциям, ваша выставка состоит из нескольких уровней приближения к теме конспирологии, очень важную роль играет кураторская точка сборки. Можно сказать, что это пример в полной мере кураторского проекта. Как вы думаете, могут ли в нынешнем контексте успешно существовать самостоятельные критические произведения художников или же без того концептуального усложнения, которое несет с собой фигура и взгляд куратора, трудно получить полновесное и адекватное сегодняшнему художественному дискурсу критическое высказывание?
ИБ: Мне кажется, наша выставка как раз интересна тем, что представленные там художники и работы имеют свою собственную автономную историю существования. Например, видео Коли Ридного являются частью его собственного художественного и кураторского проекта. За работой Кристины Норман стоит своя уже достаточно давняя и насыщенная история в эстонском контексте. То же самое можно сказать о других работах, которые уже были вписаны в какие-то совершенно другие выставки, поэтому здесь нет принципиального акцента на том, что мы, как кураторы, пытаемся обозначить жесткий подход. Наоборот, те кураторские интервенции, которые мы производим в этой выставке построены на диалоге с другими работами именно как с самостоятельными объектами. В известном смысле, это такое взаимодействие куратора и художника, которое выглядит намного более равноправным и демократичным, чем традиционный способ осуществления кураторской функции.
МЧ: Илья абсолютно прав. Когда куратор создает выставку, глупо было бы просто показывать набор сильных работ. В чем тогда смысл? В том, чтобы увеличить собственный вес, забаррикадировавшись хорошими работами? Скажем так, Zampa Di Leone — это огромный активистский проект, который существует уже 10 лет, фильм Кристины Норман был создан в 2007 году и обсуждение этого фильма вылилось в масштабный проект для павильона Эстонии на Венецианской биеннале, когда художница сделала огромную двухметровую копию Бронзового солдата. Мы не хотели просто нашпиговать выставку сильными работами и молча уйти. Куратор на мой взгляд такой же автор, просто он систематически работает с готовыми произведениями, но это не значит, что без него произведения не существует.
ИБ: Я думаю, что если говорить о московской ситуации, то мы видим крайний дефицит и бедность кураторства в принципе. Если посмотреть на роль, которую играют сегодня немногочисленные кураторы в Москве, то в основном она сводится к тому, что либо кураторы делают персональные выставки одного художника (как например, очень успешная последняя выставка Екатерины Деготь с Юрием Альбертом) — это проекты, которые связаны с взаимоотношением, диалогом художника и его друга, ценителя, критика, оппонента. Либо кураторство сводится к механической функции организации, размещения, логистики. Мы имеем крайне малое количество примеров, которые связаны с кураторской идеей, с кураторской работой в полном смысле слова. Поэтому если наша выставка как-то помогает эту роль куратора обозначить и рождает у тебя подозрение, что у нас излишне активная кураторская позиция, мне кажется, это можно только приветствовать, хотя мы сами эту позицию не видим. Но почему бы нет.
КБ: Мой последний вопрос касается объекта, который в аудиогиде по выставке значился под №8. Какую роль он выполняет в вашем кураторском замысле?
МЧ: В черном боксе, где представлен объект №8 зритель видит гравюру из книги Лео де Таксиля «Дьявол в 19 веке». Она имеет прямое отношение к созданию и развенчанию конспирологического мифа. История этой гравюры вплетена в кураторский нарратив и дополняет произведения искусства.
ИБ: Гравюра Лео де Таксиля как раз отсылает к проблеме конспирологии как конструкта, к конспирологии как жанру, в котором может работать отдельный человек, отдельный автор. И Лео де Таксиль в этом случае тоже выступает как своеобразный художник. Это не просто мистификатор, не просто человек, создавший в закрытом режиме подложный документ, который затем выдает за истинный. Его мистификация была вплетена в сложный и новаторский личный проект. Таксиль не только признался в том, что на протяжении долгих лет был обманщиком легковерных католиков, но он вскрыл внутреннюю механику создания эффекта подлинности, которая лежит в основании практически любой конспирологической модели.
- Zampa di Leone, Следы Зампы: теневая история искусств 2000-х, 2014
- Алексей Булдаков, Бегущая строка, кадр из видео; Алекандр Повзнер, Детская площадка, 2011–2014
- Лео де Таксиль, Дьявол в 19 веке, 1893
Выставка «Тень сомнения», МСИ Гараж, 2014
Прочесть аудиогид к выставке можно здесь
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.