Игорь Шелковский: «Мои работы можно разделить на семерых»
С именем Игоря Шелковского связаны важные события в развитии неофициального русского искусства: в 70-е в своей мастерской в Москве он устраивал однодневные выставки неофициальных художников, после эмиграции, во Франции издавал вместе с Александром Сидоровым журнал «А–Я». В нём впервые были опубликованы тексты Дмитрия Пригова, Бориса Гройса, Всеволода Некрасова, Владимира Сорокина, в нём также печатались работы Эрика Булатова, Олега Васильева, Ивана Чуйкова, Риммы и Варелия Герловиных, Фёдора Семёнова-Амурского и многих отвергаемых советской властью художников. Сам Шелковский – живописец и скульптор, в работах которого влияние конструктивизма соединилось с наработками поп-арта и концептуализма. Художественные поиски Шелковского выделяют его на фоне советского неофициального искусства – выверенные и минималистичные, его работы напрямую отсылают к опыту модернистов.
.
Ольга Турчина и Екатерина Муромцева встретились с Игорем Шелковским в его московской мастерской и расспросили о детстве во время войны, учёбе, знакомстве с футуристами, эмиграции, журнале «А–Я» и возвращении в Россию.


Игорь Шелковский в своей мастерской на Гоголевском бульваре, 2015 // Фото: Екатерина Муромцева
Ольга Турчина: Из какой вы семьи, кто ваши родители?
Игорь Шелковский: Я родился в простой советской семье. Отец был редактором большой краевой газеты «Оренбургская коммуна». До этого он работал в Москве, в «Комсомольской правде», третьим секретарем. Потом его послали поднимать провинциальную газету на пост главного редактора. У него была машина с шофёром, входил в элитную группу местного начальства. Был журналистом, редактором – человеком, сделавшим себя сам, потому что очень рано остался без родителей и, как Горький, проходил свои университеты. Мать ему помогала, занималась общественной работой среди жён партработников. В сентябре 1937 года, за несколько месяцев до моего рождения, отец был арестован и через несколько месяцев расстрелян. Ему было 32 года.
Матери дали родить, потом отправили в лагерь как члена семьи врага народа, так тогда называлось. Первые шесть месяцев она сидела со мной в тюрьме, в одиночной камере. Так что с этого я начал свою жизнь. Её отправили в лагерь, меня поместили в лагерные ясли. Дети там легко умирали. И мать попросила мою бабушку взять меня оттуда.
С бабушкой я прожил в Москве всю войну. И потом, до 25 лет — в маленькой комнате в общей квартире на Старой площади в центре Москвы. Семейная история меня нисколько не трогала. Живёшь и живёшь, как все живут. Я – живу с бабушкой. Если в парикмахерской, спрашивали: «Мальчик, а где твои папа и мама?», мне велено было отвечать – папы нет, а мама живёт в другом городе. Это меня устраивало.
Мать я впервые увидел, когда она вернулась из лагеря, отсидев точно, по звонку, восемь лет. Вернулась в Москву, приехала к нам. Нелегально: если бы соседи донесли, её бы снова арестовали — она не имела права находиться в больших городах, а тем более, в столице. Все, кто выходил из лагерей, должны были жить не ближе 101 км. от Москвы — «выслать за 101-й км». В 120 км. есть город Малоярославец, там чуть ли не полгорода – бывшие лагерники. Это были очень интеллигентные люди. Мать рассказывала, что в женском лагере в Мордовской ССР все женщины, которые сидели, — цвет интеллигенции: актрисы из театра Мейерхольда или театра Таирова, лучшие адвокаты, зубные врачи… Все были осуждены как враги народа или как члены семей «врагов народа».
Мать поехала жить в Малоярославец, работала там сторожем в детском саду. По образованию она была работником дошкольного воспитания, но воспитывать детей ей не дали, поэтому работала сторожем в ночную смену. Все каникулы я проводил с ней, в Малоярославце. Приходил вечером, когда всех детей разбирали, и помогал ей пилить дрова. Нужно было за ночь истопить несколько печей и начистить несколько вёдер картошки. Мы всем этим с ней вместе занимались.
Я любил рисовать и где-то лет с шести уже понял, что меня ничего другое не интересует, я буду художником. У меня в детстве не было друзей. Мы жили в доме, где во время войны никого не было. Осенью 1941 года пришли из домоуправления и сказали, что всех эвакуируют, куда-то далеко, на Восток, что надо прийти на пристань к Москва-реке, недалеко от которой мы жили. Там будет катер, надо взять с собой еды на три дня. Бабушка стала собираться, а потом подумала: «Ну куда я поеду с маленьким ребёнком?». И осталась. Будь что будет. Соседей не было, все эвакуировались. Не было центрального отопления, не было электричества. Была коптилка, фитилек, которой зажигаешь…


Игорь Шелковский, 1975 // Фото: Игорь Пальмин
ОТ: Холодно было, наверное?
ИШ: Жутко холодно. Бабушка обменяла на хлеб небольшую железную печку. Положили на паркет железный лист, поставили печку, через форточку была выведена труба, и мы её топили. Повезло, что в нашем же дворе… Дом этот до сих пор стоит на горе, он такого же вида. Это последний дом на Старой площади. От ЦК партии, к МК партии, потом через Никитников переулок, церковь и наш дом. Коммунальная квартира, примерно 15 семей. Там же, кстати, к концу войны жила Белла Ахмадулина. Я шутил, что мы с ней на одном горшке сидели. А это в буквальном смысле так, потому что были маленькие, бегали по одному коридору, катались на велосипедах. Но это было уже позже, когда люди вернулись из эвакуации… Вот мы так жили: отопления нет, света нет… Ели по карточкам. Получали в булочной хлеб и карточки на продовольствие: какое-то количество крупы, рыбы (трески) или овощей. Часто этих продуктов не было, и в течение месяцев талоны оставались неотоваренными.
ОТ: Ужас какой…
ИШ: И такая интересная деталь, когда рассказываю, никто не верит, особенно во Франции. Были рыбные талоны, на месяц 400 граммов трески… Но магазин не мог отоварить эти талоны, рыбы не было, но туда привозили красную икру. Вместо 400 граммов рыбы предлагалось 25 граммов икры. Люди обычно с возмущением отказывались, а сейчас икра — это что-то роскошное.
В нашем доме до революции была гостиница «Восток». У нас была длинная коридорная система и каждая комната была раскрашена на свой лад: восточные орнаменты. Я тогда не ценил, а сейчас думаю, в какой роскоши я жил — картины Матисса. Потолок расписан, стены расписаны, зелёное, голубое, розовое, общий тон такой кофе с молоком… Я жил среди такого зрительного богатства, не соображая, что не в каждом доме, не в каждой квартире такое есть. Роспись была сделана масляными красками. Когда печка топилась, по краске шли потоки воды. Пар отстаивался и стены были всегда мокрые.
Соседей не было… А я рассказал, чем топили? Во дворе была столярная мастерская, которая обслуживала Кремль. Она работала всю войну, там делали кресла, стулья, большие бюрократические столы. Бабушка договорилась и за какие-то деньги нам продавали опилки. Мы поднимали их на пятый этаж.
Ходили гулять, к Москве-реке или на Красную площадь. Бабушка говорила: «Товарищ Сталин о нас всех думает, помнит»… Я был полон восторга и почтения, что есть такой человек, портреты висят. Я к Сталину не то, что лояльно относился, но он был герой. Есть негодяй — Гитлер, а есть Сталин — он победит…
А если вспоминать Москву — снег не убирался, везде сугробы. Площадь Ногина (сейчас Китай-город) — там носили аэростаты, большие-большие, их за ремни держали руками, чтобы не улетели.


1976 год. Художники Иван Чуйков, который за пару лет до этого сжёг все свои работы, и Игорь Шелковский, который через несколько месяцев эмигрирует во Францию // Фото: Игорь Макаревич
ОТ: А какую функцию они выполняли?
ИШ: Они обычно поднимались вокруг Кремля. И как я запомнил: там висели какие-то тросы, если самолёт подлетал близко, он путался в этих тросах и падал. Обычно девушки проносили аэростаты по улицам — это впечатляло, потому что аэростаты были громадные… Девушки в таких овчинных полушубках.
А Ильинские ворота, знаете? Там памятник освободителям Плевны. В Ильинском скверике я играл каждый день. Мы с бабушкой приходим, а рядом стоят зенитки, копают какие-то траншеи. Здесь война, а здесь — я и ещё какая-то маленькая девочка приходила в этот скверик — играли, копались в песочке…
Екатерина Муромцева: Сколько вам было, когда началась война?
ИШ: Три с половиной года. Началась война, и мы с бабушкой пошли в ГУМ. В первые дни войны он был еще открыт. Купили репродуктор. Такая чёрная тарелка. А вся Москва была уже радиофицирована: были провода и розетки, куда можно включить. Каждый день я слушал радио. Это был единственный настоящий источник развлечения, который заменял всё остальное. Потому что телевидения, конечно, не было. В кино пойти — это роскошь. Вся война для меня прошла под радио.
ОТ: А книги?
ИШ: А книги я читать не умел. Да их и не было… Я очень хорошо помню первый день войны. Для меня он запомнился таким образом. Середина дня, часов двенадцать, я сижу в постели и бабушка меня одевает. Были такие чулки с резинками, которые надо застёгивать. Бабушка застёгивает резинки, что-то не получается. Вдруг забегает соседка, что-то говорит, и бабушка убегает вместе с соседкой к ней, слушать радио… А меня это возмущает: как это так? Она чулок не надела, а уже убегает, неужели есть события важнее чем я! Она возвращается: «Ой, ой, война, война…». А я ещё слова этого не знаю — война. Сначала была речь Молотова… Сталин — где-то через две недели…
И сразу же начались бомбёжки, но у нас дом был приспособлен, там были очень хорошие бомбоубежища: мы спускались вниз, под землю. Двери закручивались большими рычагами, и там сидит весь дом, пока тревогу не отменят. Радио было необходимо, потому что без него не знаешь сигналов тревоги. Это всё передавалось по радио: «Внимание, внимание, воздушная тревога…». Был такой диктор — Левитан.
Первые годы войны — были самыми-самыми трудными. Потом, где-то после 1943-го начали возвращаться жильцы, появились какие-то дети, с которыми я стал знакомиться во дворе. И Белла Ахмадулина… Помню, мы сидим в квартире, ещё приходили дети из соседних квартир, и вдруг выходит Белла, такая начитанная, и говорит: «А давайте играть в бедных». Она начиталась Андерсена, а мы и так все бедные, зачем нам играть… Мы наоборот играли в богатых: задавали друг другу вопросы, ты сколько пирожных съешь? Сто съешь? А я съем. А тысячу?
Потом последний день войны – ликование. Вечером — салют, прожектора, бросали монеты. Деньги мало что стоили и потом, на следующий день, можно было набрать денег очень много.
Когда я учился в школе, первый класс был отличником, весь в пятёрках, а после пятого класса стал прогуливать занятия. Прогуливать мы все очень любили. Причём, это сейчас потепление климата. Раньше зима — это каждые две недели морозы, а при –35С разрешали не ходить в школу. Мы собирались всей «бандой» и шли в кино. Товарищ Сталин сделал большое упущение — разрешил показывать голливудское кино. Перед каждым таким зарубежным фильмом была большая надпись, что фильм взят в качестве трофея после победы советских войск…
Шёл «Тарзан», 4 серии, «Судьба солдата в Америке», «Побег с каторги». Интереснейшие фильмы с героями, самые что ни на есть буржуазные фильмы, которые советским людям не нужно было показывать. Эти фильмы шли, потому что текли деньги в кассу. И хотелось зрелища, смотреть что-то необычайное… Когда я приехал в Нью-Йорк, подумал, как всё знакомо, лестница по фасаду идёт. Я всё это видел в фильмах. Даже Чаплина показывали тогда, потом перестали. Потом цензура появилась — голливудские фильмы исчезли. Французские были. Но уже позже…Хорошего кино не было, советские студии снимали три фильма в год. И все эти фильмы были насквозь пропагандистские, скучные… В лучшем случае — падение Берлина: Сталин выходит из самолёта. Сразу бежит толпа. Режиссёр где-то её останавливает, Сталин приветствует толпу… А он не был никогда в Берлине. Сталин говорил, что факты не важны, важна идея. И там к нему бегут заключённые в полосатых пижамах, весь мир он спас…
Ходили в кино. Школа была километра три от меня. Сейчас только что-то начал вспоминать. Недавно прошёлся по площади Ногина… Вспомнил, как бегал в школу, одет плохо и уши отморозил. Я научился в детстве шевелить ушами. Потом это качество ушло.


Игорь Шелковский, Борис Орлов и Дмитрий Пригов на даче в Абрамцево. 1970 // Фото: oralhistory.ru
ОТ: Ни о каких художественных школах речи не могло быть в то время?
ИШ: Я где-то после пятого класса стал ходить в кружок рисования. Был такой Центральный дом детей железнодорожников. Почему железнодорожников? У меня был приятель, а его отец — директор этого дома. Моя мать работала в детсаду в Малоярославце, который тоже был от какой-то железной дороги. Так вот всё совпало. Ходил туда несколько лет рисовать, учился там писать акварелью, маслом. После седьмого класса я решил пойти и попробовать сдать экзамены в училище 1905 года… Это училище на уровне техникума, то есть можно было после седьмого класса. В общем, пошёл, подал свои документы. Самым честным образом написал свою биографию. Что отец был расстрелян в 1937 году как враг народа, что мать сидела восемь лет. И не прошел, получил двойку за живопись.
Должен был сдать экзамены: живопись и акварель. Я — лучший акварелист в художественном кружке рисования. Сделал хороший натюрморт, акварельный. Чтобы вода, прозрачность чувствовалась… А рядом со мной был какой-то матрос, демобилизовавшийся, из провинции. Служил в армии, потом приехал в Москву и захотел поступить в училище. Карандашом он ещё как-то гипс нарисовал. А акварелью, говорит, никогда не писал, купил набор дешёвых красок «Пионер», семь цветов палитра, такие лепёшечки. И попросил меня показать, как рисовать. Я ему показал, надо водой, чуть смачиваешь, потом… И он стал раскрашивать рисунок красками… И он прошёл. А я не прошёл, получил двойку за живопись. Думаю, что такое?.. Он прошёл, получил тройку или четвёрку. Там достаточно было тройки. А меня в списках нет…
Но я не особенно тужил, потому что продолжал учиться в школе. Пошёл в восьмой, потом в девятый, потом надо было кончить десятый… И на девятом я думаю, дай-ка я попробую ещё раз поступить, потренироваться… А уж после деcятого, на третий раз, обязательно пройду.
Я снова написал заявление. Мы в Малоярославце подружились с Юлием Кимом. Мы разговаривали как-то с его сестрой, она сказала: «Не пиши всю правду, про отца, про мать, просто напиши, что жил с бабушкой. Или это сыграло роль или то, что был уже 1954 год. Первый год после смерти Сталина. Первый раз это был 1952, Сталин был в триумфе, а тут уже не было инструкции, чтобы не принимать детей врагов народа. Я легко всё сдал, уже не так серьёзно относился к экзаменам, ну пройду, так пройду, нет — так нет, пойду в школу. И вдруг, смотрю моё имя есть в списках.
Было два отделения. Первые два года учились все вместе. А потом разделялось на педагогическое отделение и театральное. На педагогическое шли реалисты, для которых Репин был главным художником. А на театральное шла публика поинтеллигентней, поинтереснее. Нам надо было организовать, набрать 12 человек. Набрали. Одна была Наташа Касаткина…
ОТ: Там у вас многие её работы висят…
ИШ: Да, она умерла уже два года назад… Потом Тамара Элиава, в будущем главный художник театра Станиславского. Такая интеллигентная публика. И у нас были очень хорошие преподаватели. Первые два года был Виктор Алексеевич Шестаков, когда-то главный художник театра Мейерхольда, потом его убрали, затюкали, и он очень боялся, сердце было больное. Как-то очень осторожно говорил. Но всё-таки иногда нас подзуживал: «Я в вашем возрасте получал медали на европейских выставках, а вы киснете». Очень хорошо было с ним. Потом у него случается сердечный приступ, он умирает. И нам надо кого-то приглашать на царствование. Голоса разделились, одни хотели Фаворского, другие – Рабиновича.
Театральный художник, Исаак Моисеевич Рабинович. Он был особенно известен в 20-е годы, работал во МХАТе. Потом в Большом театре, оформлял «Любовь к трём апельсинам». Хороший формалист, конструктивист в декорациях…
Потом стали обсуждать, что Фаворский старенький, зачем старика мучить на пятый этаж подниматься. Давайте Рабиновича позовём на царство. И позвали. Он согласился, но у него тоже было больное сердце… Вообще все, кто сталинскую эпоху пережил, умирали раньше времени. Потому что страх, страх, гнёт этого страха. Что ты можешь не так сказать или не так на тебя подумают… Кто-нибудь какую-нибудь клевету напишет, и ты не можешь доказать, что ни в чём не виноват.


Игорь Шелковский, Франциско Инфанте и его знакомая в мастерской Шелковского в Эланкуре, август 1980 // Фото: oralhistory.ru
ЕМ: А у вас был этот страх?
ИШ: Нет, у меня не было. Ну, мальчишка… Когда повзрослели, перед отъездом, перед эмиграцией, конечно, уже напряжение было. Когда самиздат ходил, когда печатали «Архипелаг ГУЛАГ» нелегально, в ванной, стопками на фотобумаге. А в детстве нет, просто об этом не думал. Сталин – хорошо, прекрасно, герой…
А Рабинович тоже – не он к нам ходил, а мы к нему ходили. Брюсов переулок, где жили все певцы Большого театра. Я помню ещё, с какой жадностью смотрел его библиотеку. Она была совсем несоветская, там был Ницше… В училище еще были очень интересные предметы — история костюма, история театра, техника сцены. Технику сцены вёл обрусевший немец по фамилии Мюллер. Всё было необыкновенно интересно.
Потом нас объединили с режиссёрским отделением ГИТИСа, театрального института. У них по программе шёл курс по работе с художником, а у нас — работа с режиссёром. И мы все как-то нашли друг друга, парами организовались и уже после окончания я ставил спектакли с Таней Глаголевой. Год проработал в театре.
ОТ: В каком?
ИШ: В Тульском ТЮЗе. Меня туда направили.
ЕМ: То есть вы в Туле жили в этот год?
ИШ: Да, мне там сняли в старом деревянном доме комнатку.
ОТ: Вы туда попали по распределению?
ИШ: Меня распределили в Оренбург, но потом пришло письмо, что они не могут принять на эту должность, и я остался без распределения. А в Тульском ТЮЗе вот — пожалуйста… Режиссёр имела право пригласить любого художника и пригласила меня.
Ещё когда учились, заполучили разрешение ходить на курс лекций по истории кино. Чаплин, немецкое немое кино до первой мировой войны, потом 20-е годы, потом французское кино. Я помню фильм «Жанна Д’Арк». И лекции — читал Комаров. Один-два фильма после показывали. То есть у нас была интеллектуальная группа, очень интересная.
Через училище Анатолий Зверев прошёл, но его выгнали. Была такая история. Он ведь такой человек спонтанный, безалаберный… Вот уже звонок, надо идти на урок, а он схватил какой-то лист бумаги в учительской и стал делать наброски с секретарши. А секретарша – такой божий одуванчик с белыми седыми кудрями, в очках… Он её очень так эффектно рисует, рисует, рисует… Входит завуч, он же — секретарь парторганизации в училище. Говорит: почему вы не на занятиях, вам что, особое приглашение нужно? Дайте мне сюда, что это у вас такое? Вырывает лист бумаги, переворачивает его, а там портрет Сталина. И за нарушение дисциплины его выгоняют из училища.
ЕМ: Ничего себе история…
ИШ: Там же Плавинский учился, с ним тоже история была. Он ходил в театральную библиотеку и вырезал из книг несколько репродукций итальянского Ренессанса, — все бандиты были. Устраивают большое комсомольское собрание. Что это такое ? Эти книги куплены на золото, на валюту. Кто за исключение комсомольца Плавинского? И никто не поднимает руку. И опять начинается: «Вы что не понимаете, таким не место в наших рядах!». Опять никто не поднимает. Махнули рукой и так и не исключили его.
Потом доклад Хрущёва в 1956 году о культе личности Сталина. Он должен был читаться среди партийцев на закрытых собраниях. Но на самом деле все, кто мог, пришли, – учащиеся и наши преподаватели по истории искусства. Преподавательнице дали этот текст, она начинает читать, у неё перехватывает горло всё время, слёзы текут. Она говорит: «Я не могу, не могу больше».
ОТ: Почему?
ИШ: Ну потому что это очень волнующая тема. Это была сенсация громоподобная. Впервые мы узнаем что-то о скрытой стороне нашей же жизни. Это потрясло всех. Вообще весь мир потрясло. Сколько распалось коммунистических партий на западе, и французская компартия это пережила…
Потом дали преподавательнице по литературе, толстая такая старуха, она уже читала спокойно. Там же писали и про пытки, очень много всяких деталей. Кстати, когда опубликовали во всех газетах (через несколько месяцев), то наиболее страшные куски выбросили. Оставили более формальный текст.
Вот, это то, что запомнилось из студенческой жизни. И кроме того, мы, как театральные художники имели бумажку, с которой могли ходить в любой театр, на любой спектакль. О, это было блаженство! Во-первых, прекрасные актёры: Игорь Ильинский, Эраст Гарин, Алиса Коонен. Я их видел всех и очень хорошо запомнил. Во-вторых, восстановили спектакль «Мандат», который ставил когда-то Мейерхольд. Художником был Шестаков. И главную роль и при Мейерхольде, и при нас играл Эраст Гарин. Как-то восстанавливалось то, что называется связью времён — 20–30-е годы. Я всегда считал, что 20-е годы — это наше будущее.
Мы ходили на концерт Вертинского в театре Киноактёра. Для нас это было чудо, как если бы воскресили Есенина или Маяковского. Человек из совершенно другой эпохи. Он был такой старый, это был последний год его жизни…
В мастерской Игоря Шелковского на Гоголевском бульваре. Москва, 2015 // Фото: Екатерина Муромцева
ОТ: А конструктивистский театр 20-х?
ИШ: Я очень любил конструктивистскую архитектуру, хотя никто мне не подсказывал. Я ходил на кружок рисования на Новой Басманной. Мимо дома Корбюзье на Мясницкой… Симонов монастырь, потом – Дворец культуры, который братья Веснины строили. Дом архитектора Николаева, где Донской монастырь. Он сейчас очень плохо рассматривается, там всё деревьями заросло. Но это хороший конструктивистский дом, ленточные окна длинными полосами. А с другой стороны — столовые, другие корпуса, и они сделаны так рубчато, как будто это волны, и получается, будто корабль бежит по волнам. Мы ходили любоваться, так условно называли «домом Корбюзье», хотя это не Корбюзье.
ОТ: У вас есть вещи – такая аллюзия на конструктивизм.
ИШ: Да, это я делаю с удовольствием, для себя.
ОТ: А вот эти макеты тоже для себя?
ИШ: Для себя, для кого же ещё… Мы оказались невостребованными.
ЕМ: А что значит — «мы не востребованны»?
ИШ: Ну, наше поколение. При советской эпохе мы были неофициальными художниками.
ЕМ: Как вы попали в круг неофициальных художников?
ИШ: Да я и не попадал, и круга не было. Если ты веришь в социалистический реализм, то вступаешь в МОСХ, пишешь картины на нужную тематику, например, колхозное собрание, выпуск чугуна, Ленин с детьми в Смольном… Получаешь за это хорошие деньги. Скульпторы обычно делали «ростовичков» – скульптуру Ленина в полный рост. Эти скульптуры обязаны были закупать колхозы или совхозы. То есть крупный колхоз, у них какой-то процент отпускался на культуру. Они обращались в МОСХ. Там был художественный комбинат, скульптурный комбинат. И этот комбинат давал работу какому-то художнику. Тот делал ростовичка, Ленина с кепкой или без кепки, в пальто или без пальто. Колхоз платил, скульптор получал деньги и мог жить год на эти деньги, или больше. Потом снова заказывали… Некоторые бюст делали, подешевле.
Это художники, которые хотели делать карьеру, попасть за границу, например, в Болгарию. Ну, в Польшу ещё, может быть, но уже реже, потому что надо было достать партийные характеристики. Нужно было быть абсолютно лояльным строю и его эстетике. Меня советская власть не устраивала эстетически. Мне противны были все эти отчётные выставки с нужными картинами. Ведь раньше писали картины так: брали громадный-громадный холст, семь на пять метров: «Заседание академии сельского хозяйства». В президиуме сидит политбюро, Лысенко и другие. И писалось это бригадами.
ОТ: Бригадный метод?
ИШ: Да, причём возглавляет бригаду какой-нибудь Иогансон. Такие картины обязательно получали Сталинские премии. Премии были первой степени, второй степени и третьей. Премии делились: главному художнику и остальным.
И вот такая шла художественная жизнь, была хорошо организована. Не самотёком, всё было продумано. Вот, пожалуйста, будь лоялен и у тебя всё будет. А мне всё это было глубоко противно, в характере был негативизм. Например, официально отношение к Врубелю было отрицательным: не наш художник, декаданс. Хотя в Третьяковке был «Демон», но он не рекомендовался в нашем кружке – вы не увлекайтесь, это формализм, это не для вас. Ну, висит там по старой привычке… Константина Коровина почти не было, только какие-то ранние вещи, реалистические. Импрессионизма не было. Импрессионизм звучало как ругательство. Сейчас есть слово «экстремизм». Когда не знают что сказать про тексты, например, то называют экстремистскими… А тогда слово «импрессионизм» убойное было. Если говорили про кого «импрессионист», то выгоняли из МОСХа.
Вот, например, «Купание красного коня» повесили уже при Хрущёве. При Сталине оно было где-то в запасниках. Вообще Петрова-Водкина в детстве я не знал, не было его нигде… Но меня, наоборот, тянуло к такому запрещенному искусству.
Такой момент часто вспоминаю. Какой-то художник, Яковлев, реалист, написал книгу о великих русских художниках. В этой книге была глава о Шишкине. Хороший художник Шишкин, но там в этой статье он упоминает и Левитана. А это уже декаданс, ведь он добавляет свои индивидуальные настроения, эмоции. Это уже упадочный художник. И мне сразу начинает нравится Левитан – я за Левитана.
За Врубелем ходил в историческую библиотеку, смотрел дореволюционные альбомы, тексты искусствоведа Николая Врангеля. Многое узналось через Маяковского. Лиля Брик издала его десятитомник, там мелькали какие-то фамилии, репродукции Лентулова… Вот по крупицам всё нелегальное собиралось.
Я жил не в интеллигентной семье. Бабушка моя была неграмотная. Это не родная, а приёмная мать моей матери. Она просто приехала из Калужской губернии в Москву… В 20-е вступила в партию. В кожанке на борьбу с бандитизмом ездила, потом отошла от этих дел. Да, была партийная деятельница. Она еле писала, так что ничего про искусство не рассказывала, но любила меня. Когда моя мать приезжала после лагеря, нелегально, прячась от соседей, чтобы никто не знал, она меня водила в Третьяковскую галерею. Оказалось, что стоит через мост перейти, рядом галерея, туда ещё трамваи ходили… И я стал бегать в Третьяковку с приятелями, и вот любимое занятие было смотреть картины. А потом, оказывается, были футуристы… а кто такие? Так интересно…
- Розовое панно. 2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Рельеф №1. 2003–2004. Дерево, резьба. Собственность автора
- Конструкция. 1973. Дерево, пигмент. Собрание Александра Сидорова
- Коля Филиппович и Вова Полянин. 1967; Дюк Элингтон. 1967. Монотипия. Собственность автора
- Голова. 1971. Дерево. Собрание Владимира Антоничука
- Из серии «Летние дни». 1981–1997. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Из серии «Летние дни». 1981–1997. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Воображаемый дом в окрестностях Цюриха. 2006. Дерево, картон. Собственность автора
- Дом с желтым двором. 2009. Картон, пигмент. Собственность автора
- Из серии «Люди на пляже». 2000. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Дом-корабль. 2010. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Живописный квартал. 2009. Картон, пигмент. Собственность автора
- Цветовая композиция с черными линиями. 1980-е. Дерево, пигмент. Собрание Владимира Антоничука
- Розовый рельеф. 1977. Дерево, масло. Собственность автора
- Дождь. 1980-е. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Москва. 2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Дом с красной крышей. 2008. Картон, пигмент. Собственность автора
- Музей современного искусства I. 2010. Дерево, картон, пигмент. Собственность автора
- Способы изображения дерева I, II, III. 2012. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Мальчик из Переславля-Залесского. 1970. Бумага, карандаш, белила. Собственность автора
- Жилой дом I. 2009. Картон, пигмент. Собственность автора.
- Небоскреб. 2006. Картон, пигмент. Собственность автора
- Белая башня. 2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Небоскреб-подросток. 2009. Картон, пигмент. Собственность автора
Ретроспектива Игоря Шелковского «Пространство перемен» в Мультимедиа Арт Музее. Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина
ОТ: Футуристов вы тоже узнали через Лилю Брик?
ИШ: Да, через Маяковского. Была библиотека Маяковского, рядом с домом, где он застрелился. Я туда записался и брал эти красные тома… Если бы кто-то тогда сказал мне, что я буду лично знаком с друзьями Маяковского, я бы не поверил. А потом оказалось, что мне удалось: пожимал руку Бурлюку, Крученых, Юрию Олеше… С удовольствием всё это вспоминаю.
Был такой художник Володя Слепян. Мы с ним познакомились в 1956 году на выставке Павла Кузнецова в ЦДРИ. Он был очень активный человек. Он жил на Трубной улице, дружил с Олегом Целковым, перед этим учился на математика в Ленинграде. Потом переехал в Москву. Привёз с собой несколько холстов Целкова, а-ля ранний Кончаловский: цветы, драпировки. Его квартира стала центром, куда люди приходили, знакомились, разговаривали. Это был период начала «оттепели». Очень знаменательное время, когда вдруг после сталинского холода, мороза, когда люди абсолютно всего боялись, не общались, не разговаривали, не знали, что дальше будет с ними и со страной. Слепян занимался тем, что устраивал встречи с интересными людьми. А он был маленького роста, но очень активный, командир в хорошем смысле… Был на десять лет меня старше, поэтому я целиком выполнял его просьбы. Он меня попросил связаться с Дейнекой, договориться его мастерскую посмотреть. А Дейнека не стал со мной разговаривать, трубку повесил.
Как-то в газете «Вечерняя Москва» Володя заметил объявление, что по приглашению поэта Асеева в Москву приезжает Давид Бурлюк. Ему удалось достать его телефон, узнать, в какой он гостинице. Он позвонил Бурлюку, сказал, что молодые художники хотели бы с ним встретиться. Бурлюк говорит: «Хорошо, в такой-то день, в 9 утра, я вам уделяю 15 минут». Мы пошли: я и Наташа Касаткина со своими холстами и Володя Слепян с холстами Целкова. Володя тогда еще только проектировал, что сам будет заниматься живописью. И мы идем в гостиницу «Москва», там везде ковры, люстры… Лифт не работает, мы пешком по этим коврам поднимаемся. Звоним, открывает дверь Бурлюк, такой весь добротный, солидный, руки все в конопушках. Весь этот день я пытался догадаться, какой глаз у него вставной, какой — настоящий. Так и не догадался! Он так по-американски сделал короткое вступление: «Я — отец русского футуризма, я с такого-то года в Америке, у меня два сына, один — успешный архитектор, другой — дизайнер». Такую короткую автобиографию рассказал! Проводит нас в шикарный многокомнатный номер, в центральной комнате стоит рояль, висит «Сирень» Кончаловского. Кончилось тем, что мы у него пробыли весь день до вечера! Ему это польстило, что его помнят русские художники, молодежь.
Бурлюк до этого ездил по Франции и сделал там такой концептуальный ход: объездил все места, в которых работал Ван Гог, и написал эти же пейзажи. А потом поехал в Переделкино — тоже писать пейзажи в манере Ван Гога. Накупил холстов и подрамников в Финляндии, причем отличные холсты. Ему надо было натянуть эти холсты на подрамники. И он нас попросил помочь, но не было гвоздей. Я побежал за гвоздями, а ближайший пунктом была керосиновая лавка у Никитских ворот. Я купил кулек гвоздей, вернулся, а Бурлюк сидит, рассказывает: «Для нас Пикассо — это старая шляпа. Сейчас в моде художник, который бегает по холсту и разливает краску из чайника». Мы так сидим, слушаем, и приходят другие запланированные на 15 минут гости — Валентин Катаев, Виктор Шкловский, какие-то режиссеры.
- Из серии «Механическое рисование». 2002–2012. Бумага, цветной карандаш. Собственность автора
- Город. 2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Элитный дом. 2009. Картон, пигмент. Собственность автора
- Музей современного искусства III. 2010. Дерево, картон. Собственность автора
- Проект музея современного искусства II. 2010. Дерево, пигмент, картон. Собственность автора
- Поговорки. 2001. Дерево, пигмент. Собрание автора
- Проект музея современного искусства I. 2010. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Городские строения. 2008. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Пакет молока. 1975. Дерево, пигмент. Собрание Александра Сидорова
- Рельеф с профилем. 1971. Дерево. Собрание Александра Сидорова
- Курильщик. 1970-е. Дерево, пигмент. Собрание Владимира Антоничука
- Забор. 1973. Дерево, стекло, темпера. Собрание Александра Сидорова
- Розовое панно. 2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Розовое панно. 2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Точки. 2000-е. Холст, масло. Собственность автора
- Проект нового русского флага. 2000–2012
- Мелкая пластика. 2000–2013. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Слева-направо: Облако IV. 1980-е — 1990-е. Дерево, пигмент. Собрание Владимира Антоничука; Облако. 1970-е. Дерево, пигмент. Собрание Александра Сидорова; Облако I, II, III. 2005. Дерево, пигмент. Собственность автора
- Движение цвета I. 1980-е. Оргалит, масло. Собрание Владимира Антоничука
- Белая башня. 2013. Металл, пигмент. Частное собрание
- Обнаженная. 1973. Бумага, карандаш. Собственность автора
- Обнаженная. 1973. Бумага, карандаш. Собственность автора
- Крашеная бронза. 2010. Бронза, масло. Собственность автора
- Капуста I. 1988. Бумага, тушь. Собственность автора
Ретроспектива Игоря Шелковского «Пространство перемен» в Мультимедиа Арт Музее. Москва, 2013 // Фото: Ольга Данилкина
ОТ: А Крученых?
ИШ: Там была совсем другая история. Я в школе дружил с Сережей З., мальчиком, который выделялся в нашем классе. Он очень сильно заикался, плохо слышал и был несколько тучный. Его никогда к доске не вызывали, он писал только письменные ответы – все ему завидовали. Нас с ним объединяло то, что мы собирали букинистические открытки. Через открытки я узнал, кто такой Матисс, Гоген, Ван Гог, всю французскую живопись. Это были открытки издания Музея нового западного искусства. Потом он начал собирать библиотеку русских поэтов начала века, гнался за книжками в хорошем состоянии, чтобы они были чистенькие, не давал в руки смотреть, а только сам показывал. И он узнал, что Крученых продает свою библиотеку. Крученых жил в Москве, на Мясницкой, по-моему, в том же доме, где жила художница Удальцова. А поскольку мой друг заикался и плохо слышал, он попросил меня его сопровождать.
Ну мы пришли, дозвонились в квартиру, нас соседи отправили вглубь по коридору, в последнюю комнату. Света нет, темно… Мы идем, стучимся в эту дверь, оттуда голос: «Денег нет!». Опять стучимся: «Нету денег!». Сережа толкает эту дверь, мы входим в комнату. Такая довольно просторная комната, пустая. По стенам — пирамидки, как небоскребы, из книг. Все стены заставлены книгами. Посередине стоит простая железная кровать. На ней лежит человек, одеяло до самых глаз затянуто. Под кроватью стоит горшок и бутылка с кефиром. Мы входим, он кричит: «Вы откуда? Из домоуправления? Денег нет!». Я объясняю, что мой друг коллекционирует поэзию. И он начинает очень долго рассуждать, что-то рассказывает… Вспоминает, вот был поэт Кузьмин, у него эротические стихи, и у меня все время эти книжки воровали. Мы так стояли час, в темной комнате с занавешенном окном. Он говорил, что очень занят, что у него запись в библиотеке Маяковского, потом еще где-то… Он отказался и продать что-то, и подписать сборники, которые Серёжа ему принес. Я, говорит, вас не знаю, как же я подпишу.
А Бурлюк потом прислал мне целую пачку своих журналов. Я теперь так жалею, что потерял их. Я когда уезжал во Францию, почти ничего с собой не взял. Чемодан купил мне приятель за два часа до отхода поезда. Один из номеров журнала Бурлюка был посвящен его поездке. В нем и переделкинские пейзажи были в стиле Ван Гога. До этого он издавал в 30-е годы свои книги, сборники, где скромностью себя не украшал, был «отцом русского футуризма». «Я не признан широкой публикой, но от этого теряю не только я».
А третий — Олеша. Режиссер, с которой мы работали, была очень активной женщиной. У нее как раз родился сын, и она для него хотела поставить «Трех толстяков». А Олеша жил в доме писателей напротив Третьяковки. Там же жил Пастернак. Дошла такая фраза, которую Пастернак говорил Олеше: «Вы пьете, потому что вы талантливы». И режиссер познакомилась с Олешей, решила отвезти туда меня и своего мужа. Когда мы пришли первый раз, его не было дома. Но нас пустили, комната была не заперта. Он тогда писал пьесу про Бетховена. Астангов, главный актер театра Вахтангова, должен был играть Бетховена. Поэтому весь дом был заполнен пластинками. А второй раз мы пришли, он сидел, что-то печатал на пишущей машинке. У ног стояла бутылка пива, он говорил: «Простите, я вас не угощаю, но для меня это как лекарство». Он меня удивил невероятной фантазией, какие-то истории рассказывал… Надо было, конечно, это все записывать. Был длинный монолог о том, почему не бросаются под трамвай, а бросаются под поезд… Говорил на такие абстрактные темы.
ОТ: А если возвращаться к вам непосредственно, как выкристаллизовался, появился ваш личный стиль?
ИШ: А он есть? Я как-то мало с ним знаком. Меня всегда интересует, как люди со стороны видят мои вещи. Мои работы можно на семерых художников разделить.
ОТ: Но все равно рука видна.
ИШ: Тогда я скажу, что не знаю, как об этом говорить.
- Обложка первого журнала «А-Я», 1979
- Обложка второго журнала «А-Я», 1980
- Обложка третьего журнала «А-Я», 1981
- Обложка четвертого журнала «А-Я», 1982
- Обложка пятого журнала «А-Я», 1983
- Обложка шестого журнала «А-Я», 1984
- Обложка седьмого журнала «А-Я», 1986
Обложи журнала «А-Я»
ЕМ: Хорошо, а кто на вас повлиял?
ИШ: Очень многие. Первый — это Семёнов-Амурский. Мы с ним познакомились в 1954 году у картины Матисса. История такая. Пушкинский музей долгое время был музеем подарков Сталину. Оттуда убрали всю старую живопись, все заполнили подарки Сталину. Выставка эта была чрезвычайно скучная. Там в основном висели ковры, где был выткан Сталин, или его портреты из зёрен. А потом было еще зерно, на котором был нарисован портрет Сталина, на него надо было смотреть в микроскоп. И были какие-то сабли для товарища Сталина, было еще несколько картин художников-реалистов из Франции. Был такой Андре Фужерон, большой холст «Убийство коммуниста»: коммунист расклеивает листовки, а его убивают, кровь течет. Был еще художник Таслицкий, который на тему Освенцима рисовал. Там были очень разные подарки. Но в основном — ковры, вазы. И оружие.
А после смерти Сталина стали освобождать и потихоньку развешивать то, что было в запасниках. Из французов начала века и импрессионистов первым повесели «Стог сена» Клода Моне. Как сельский пейзаж. Потом – «Круг заключенных» Ван Гога, поскольку социальная тематика, художник протестует против эксплуатации и капитализма. Потом — «Свидание» Пикассо. И где-то сентябрь-октябрь 1954 года, в училище проходит слух, что повесили Матисса. Музей работал до 9. И где-то часов в семь мы пришли в этот музей. Действительно, там висит Матисс, натюрморт с голубой скатертью, в золотой раме. Мы стоим, любуемся, рядом с нами — человек с белым воротничком, с галстуком, импозантный, он обращается к нам. Начинается разговор, он его ведет долго, долго. Потом уже музей закрывается, мы спускаемся вниз, надеваем пальто, идём его провожать и доходим до его дома на Шаболовке. Он нас приглашает, спрашивает, хотим ли мы посмотреть интересного художника. Зовёт нас в воскресенье к 12 дня. Мы приезжаем в это время и остаемся там до ночи. Он показывает работы, которых у него сотни, ведёт разговоры. Жил он в коммунальной квартире, комната была 12 метров, там еще стоял велосипед. Живопись его меня поразила: яркая, красивая. И поразило, что в советское время можно жить совершенно не советской жизнью. Он не читал газет, он не слушал радио. Хотя был членом МОСХа, мог написать хорошую реалистическую работу.
ЕМ: Что значит «несоветская жизнь»? Это очень интересная формулировка.
ИШ: Он все время сидит дома, пишет. Соседи злятся: им утром ходить на работу, на завод куда-то, а он сидит. Он не участвовал ни в каких партсобраниях, он не член партии. Но он всего боится, никуда не суется, ничего не говорит вслух. И в 1949 году до него добираются в МОСХе, хотят его исключить. Идет партсобрание в МОСХе, обсуждают дела, финансовые проблемы. А вопрос о его исключении — в самом конце, когда уже все устали. И был такой художник, Шмаринов Дементий Алексеевич, он председательствовал: говорит все как нужно, полный конформист. Но когда он может что-то слегка манкировать, это тоже делает. Он это исключение превращает в шутку. Говорит: «Ну мы с вами здесь, конечно, все гении. Но пусть среди нас будет просто талантливый». Все рассмеялись и сделали его кандидатом. Он был членом МОСХа, а стал кандидатом. А в те времена вы не могли кисточки купить, если у вас нет МОСХовского билета. Вот этот художник, Семёнов-Амурский, на меня повлиял.
И французские художники на нас влияли. Сезанн, Ван Гог, Матисс, Пикассо, Боннар. Узнали и Дали, и скульптуру французскую. А потом оказалось, что французы давно исчерпаны, есть поп-арт, Энди Уорхол. А мы куда бежим? Совсем не в ту сторону! Но когда я приехал во Францию в 1976 году, я увидел, что мы были довольно хорошо информированы, что были журналы – американские, немецкие, французские. Мы в Москве уже целились соревноваться с американцами. Косолапов, Соков, Чуйков — это все уже ориентировано на Америку.
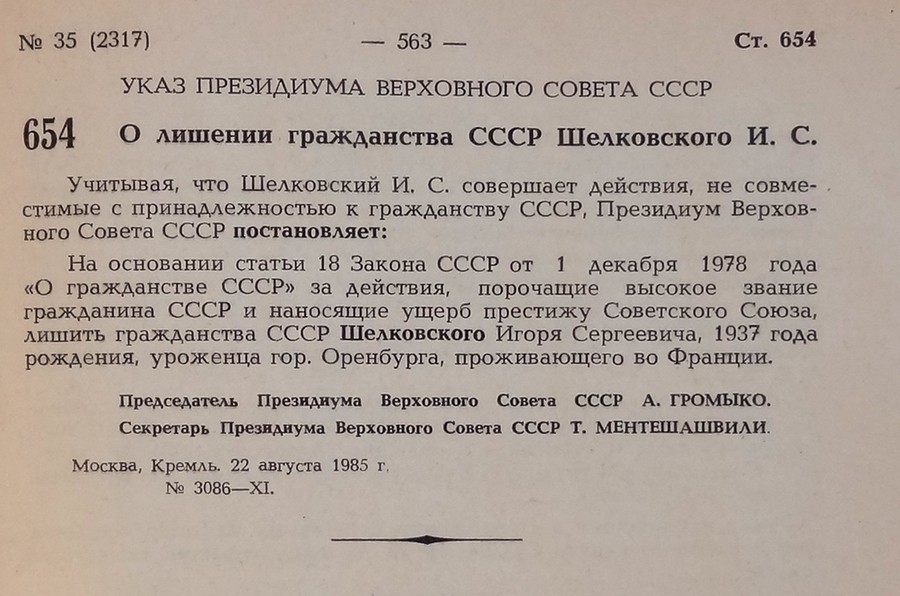
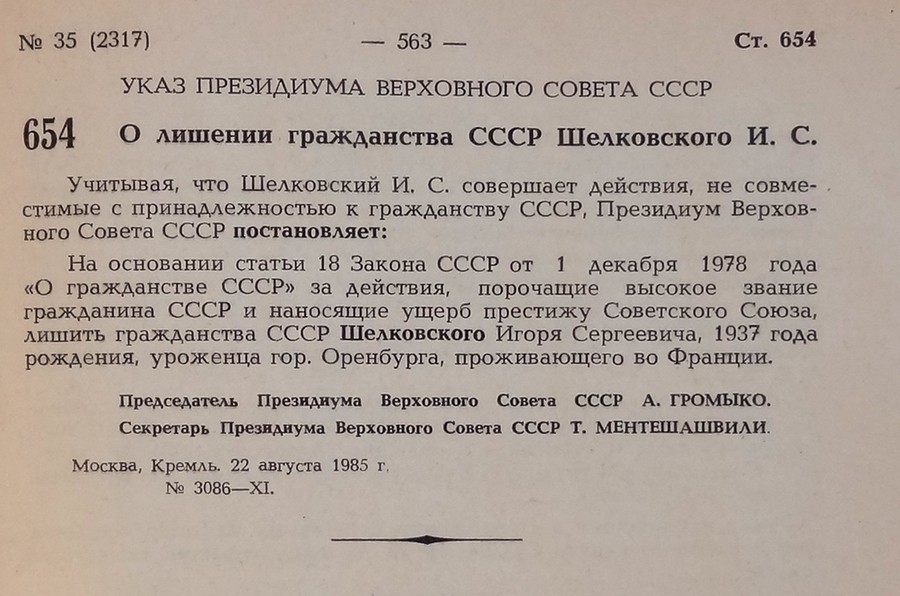
Фото: oralhistory.ru
ЕМ: Как вы уехали?
ИШ: Я был женат на женщине из Швейцарии. Мы были недолго знакомы до этого брака, если она приезжала, то на два–три дня. Нам не удавалось зарегистрировать брак, потому что во дворце бракосочетаний называли какие-то даты, а ей в эти дни не давали визы. И потом вдруг как-то это совпало, мы расписались, я ей отправил приглашение на три месяца жить здесь. Она славистка, работала над диссертацией по поэзии начала века — Брюсов, Блок. А потом она мне сделала приглашение на три месяца ехать в Швейцарию. А я хотел взять с собой свои скульптуры, сделать выставку. Здесь-то они никому не нужны. И перед этим мне повезло, она имела право вывезти две работы, но они должны были быть показаны на комиссии. Была такая комиссия искусствоведов и реставраторов. Они с симпатией ко мне отнеслись и написали, что это не представляет художественной ценности. И мне можно было две вывезти, а я хотел немного больше. И нужно было разрешение. Был такой человек, Халтурин, который работал в министерстве культуры РСФСР, а он – ни в какую! Я говорю – это же не представляет художественной ценности, но он говорил, чтобы я приходил через две недели… Прихожу через две недели, он говорит, что потерял мои фотографии – а они на столе лежат. Врёт откровенно. Так я ездил раз в неделю в министерство беседовать с этим Халтурным. А сам жил и работал в Абрамцево. Проходит три месяца, потом еще какой-то срок, и вдруг я получаю телеграмму: «Я с тобой развожусь, я тебя не принимаю». Я думаю сначала, что это какой-то обман, фальсификация, не могу дозвониться. Так и не понял, что произошло, только гадать можно.
Но до этого времени я уже получил загранпаспорт и поменял деньги на швейцарские франки, мне осталось получить швейцарскую визу на въезд. Я иду в посольство, объясняюсь, они говорят, что мое приглашение устарело. У меня был приятель Сережа Ясаян, который тоже учился в нашем училище. Он говорит: «У меня есть хороший знакомый, молодой парень, работающий в посольстве, ты его приглашаешь к себе в мастерскую, даришь ему рисунок или гравюру, и мы ему откровенно всё говорим. Посмотрим, что он нам посоветует». Мы его пригласили, рассказали всё. Он ответил, что мои отношения с супругой в посольстве никого не интересуют, важно, что у меня были деньги и не надо было бы меня отсылать обратно за швейцарский счет. Просто придите и покажите им деньги. И действительно, я пошел, показал паспорт и деньги, и мне дают визу на десять дней.
Я собираю совет в Филях, Кутузовский совет — Боря Орлов, Иван Чуйков, Алик Сидоров (Александр Сидоров – прим. ред.), думаю ехать или нет. Они мне говорят: «Конечно, поезжай, расскажешь нам как там, мы ничего не знаем!». И все второпях, днем отходит поезд, утром собирался. У меня было разрешение на две скульптуры. Одна скульптура большая, и я сделал её всю разнимающуюся. Разобрал и перемешал с другими скульптурами. Было много сумок, и на вокзале Алик Сидоров мне помог. В вагоне у проводника в конце была пустая комната, он туда это все загрузил, и я поехал.
Швейцарская виза у меня была на десять дней, поезд шел не через Австрию, через Польшу, ГДР и ФРГ. Полученная мной австрийская виза потом очень пригодилась. К жене я не поехал, поехал к нашему общему приятелю, который нас познакомил. Свалился на него, как снег на голову.
Я прожил у него все десять дней, и первые дни пропали впустую, потому что он решил, что должен показать мне Швейцарию в наилучшем виде: мы садимся в его машину, он везет меня в какие-то горы. Там пастушьи избушки из толстых бревен, мы там живем. Я только что в Абрамцево в лесу жил, а теперь тут должен!
Потом эти десять дней проходят, надо решать — возвращаться? Оставаться? Как возвращаться — я еще ничего не видел. Мы идём с ним в полицию, я спрашиваю, могу ли получить политическое убежище. Мне отвечают, что вряд ли, да и все из Швейцарии уезжают, вот Солженицын уехал в Америку. А я все время такой напуганный, боюсь, что меня сейчас возьмут и вышлют. Мне сказали, что я могу поехать в Вену, там есть фонд Толстого, и вся эмиграция идет через Вену. Некоторые жили там по несколько месяцев, их устраивали в гостиницу. И тут я вспоминаю, что у меня стоит штамп на въезд и выезд из Австрии. И я с этим паспортом еду в Вену, там меня устроили в гостиницу. Спрашивали, куда я хочу поехать — я говорю, что во Францию. Они отвечают, что Франция никого не принимает, но они попробуют что-то сделать. Три недели я прожил в отеле, потом получил визу и поехал в Париж. Там меня тоже Толстовский фонд ждал. Тоже жил в гостинице два месяца. Потом три месяца меня поддерживал католический фонд помощи интеллектуальным эмигрантам. Потом я должен был сам выкарабкиваться. Но у меня работу купили, потом я сам начал зарабатывать, давал уроки русского языка, красил квартиры.
ЕМ: У вас были друзья?
ИШ: Да, французы меня очень поддерживали. Потом и друзья появились. Первое время фонд выдавал мне 10 франков в день, а билет в Лувр стоил 9 франков, я это запомнил. Были знакомые еще по Москве французы-слависты, они устраивали два-три обеда в неделю.
ЕМ: В каком году вы начали издавать журнал «А–Я»?
ИШ: Первый номер вышел в 1979 году, готовился он два года, идея появилась в 1977 году. Это были дальние-дальние подступы. Никто не знал, что мы хотим и какого вида должен быть журнал. Долго спорили, перебрали разные варианты.
ОТ: А вообще идея, первый импульс создавать журнал, вам принадлежала?
ИШ: В Москве я познакомился с одним швейцарцем, его зовут Жак Мелконян. Мать его швейцарка, а отец – армянин из Египта. Отец жил в Париже и занимался торговлей тканями. Жак в молодости учился в Италии дизайну, любил искусство, собирал коллекцию. Причем коллекцию он собирал из стран Восточной Европы. У него были польские конструктивисты, болгарские ташисты, даже рисунки Матисса были. И он попал к Костаки, у которого были три моих скульптуры. Жак очень много увозил работ в Швейцарию — и Чуйкова, и Орлова. Мог ведь тогда прекрасную коллекцию собрать, если бы продолжал: никто ничего не стоил. Через Костаки мы познакомились, потом мы продолжили дружеские отношения в Париже.


Жан Мелконян. Москва, 1990-е // Фото: репринт журнала «А-Я», 2004
В один из приездов он говорит: «А почему бы русским художникам не начать издавать свой журнал?». Хотя первой идеей был даже не журнал, а общество помощи русским художникам в Цюрихе. Потом возникла идея журнала, он был готов его финансировать. Мы думали, кто бы мог в Париже это делать. Но у всех, кто был способен что-то сделать, уже были свои журналы. И я решил попробовать. Он мне субсидировал всю техническую часть – купил монтажный стол, пишущую машинку. А так я делал все бесплатно. Но он купил у меня работы, и я на это жил. Он настоял на формате А4, чтобы была самая лучшая бумага и цветные иллюстрации. Первый номер был люксовый. Всего было выпущено семь номеров журнала и восьмой номер, литературный. Литературный номер я уже делал не экономя денег, потому что я вдруг оказался в хорошем положении. Алик Сидоров прислал мне работу Булатова «Опасно», которая была на обложке первого номера, мы эту работу продали Нортону Доджу, коллекционеру русского искусства из Нью-Джерси. По-моему, за 18 тыс. долларов. Во времена Рейгана доллар укрепился по отношению к франку, и у меня появились деньги на хорошее издание.
ЕМ: Какой был тираж?
ИШ: Первый номер — 7 000 экземпляров. Это тоже заявка Мелконяна, я совсем не знал, какой должен быть тираж. У следующих художественных номеров я делал тираж 3000. Первый тираж, в основном, остался у Мелконяна. Тысячу номеров он мне дал, тысячу отправил в Нью-Йорк, а остальные — у него. Обычно все эмигрантские издания — это 500 экземпляров, никто мне не верил, что я издаю 3000. А переиздание в Москве — только тысячу сделали. Литературный номер я сделал только тысячу, рассчитывая только на русских, там нет перевода. Но я ошибся — он разошелся моментально.
Еще такая деталь: после журнала «А–Я» я не нашел никого, кто бы мог или хотел продолжить это дело. Было много материала, и я думал сделать альманах, чтобы сами художники написали о себе. Я продал архив «А–Я» Нортону Доджу, получил за это 30 тыс. долларов. И 15 тыс. я потратил на этот альманах. Надо было перевести все, я хотел его сделать на двух языках. Осталось только это смонтировать, сделать вступительные статьи. Я приехал с этим в 90-е в ГЦСИ, но у них уже не было интереса. Так у меня это и осталось, не было издано. А потом я уже не мог этим заниматься, это было дело прошлого.
ЕМ: Чем вы сейчас заняты?
ИШ: У меня сейчас два важных дела — издать письма и сделать выставку Семёнова-Амурского. Писем полторы тысячи, надо делать макет книги. К ним нужно делать комментарий – в них упоминается много выставок, нужно комментировать, когда и где они прошли.
ЕМ: Как вы выбирали, что публиковать в журнале?
ИШ: Все зависело от активности художника. И многие обижались, что их не печатают. А я просто не мог, потому что у меня не было о них никаких материалов. Художники сами присылали материалы — Эрик Булатов присылал слайды отличного качества. Каждый, кто хотел, мог найти какого-то иностранца и через него переслать. Познакомиться с Аликом Сидоровым, он многое пересылал. Иногда у нас не совпадали вкусы, и некоторых его художников я так и не напечатал. А в конце, наоборот, стали писать письма с просьбами не печатать в журнале — боялись. Кабаков писал, Володя Немухин.
ЕМ: А как в Москве художники узнавали про журнал?
ИШ: В Москве интеллигенция знакомилась друг через друга – сарафанное радио. Других способов не было. Мне рассказывали, что в Москве журнал зачитывали до дыр – сто человек на экземпляр обязательно было. А я засылал журнал как мог. Иногда через туристов. Однажды познакомился с архитектором, он через три дня в Москву летел, я ему дал журналы. Он взял две пачки второго номера, чтобы передать Борису Гройсу. И была целая история, как их передать. Борис жил в спальном районе, был ветер, снег, не понятно, как войти в этот дом… Он там что ли через окно кричал… Как-то все-таки передал.
ЕМ: Почему вы решили вернуться в Россию?
ИШ: Основная причина моего отъезда — я бежал от коммунизма. Как только коммунизм кончился, я начал приезжать каждое лето. Я же до сорока лет жил в Москве, у меня здесь все друзья. Потом, я не бросаю Францию окончательно, у меня там большая мастерская.
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.
















































































































































