Стратегии и анекдоты группы Rabota
Художественный дуэт исповедуется о творении искусства в полном лишении и бездомности, принятых добровольно как эстетико-политическое откровение подлинности бытия. Между эскапизмом как привилегией до голой жизни мигрантов методы авторов нащупывают контуры мира, сформированного обездоленностью и экономикой.


Группа Rabota, «Проникновение», 2019. Перформативная инсталляция в галерее А3, Москва.
1. Вещи
Однажды ночью мы стояли в зоопарке Барселоны на лужайке и смотрели на верхушки пальм. Мы были голыми, потому что намазались гелем от чесотки. Стояли, расставив ноги и руки, чтобы просохнуть. Наши тела блестели. Это был момент перед тем, как включилась оросительная система, о которой мы понятия не имели: фонтаны воды в темноте хлынут на нас через полсекунды. Также мы не подозревали, что за нами из кустов наблюдают те, кто через несколько минут украдет все наши вещи.
Если один в своем одиночестве выпадает из общего мира, то двое, находясь вместе, всегда носят его с собой. Мы встретились на причале Мурано в конце 2014 года, прибыв туда из разных мест. Той же ночью мы выкинули все наши вещи в лагуну. Одевшись в китайском магазине, как подобает королевской семье в изгнании, мы улетели в Непал, чтобы больше никогда и никуда не возвращаться.
Мы перестали заключать себя в комнаты, за пределами которых находится мир. Мы находим этот мир внутри любой комнаты, стоит только начать говорить и думать. Мы перестали жить в одном месте, и не потому, что нам мало одного. Скорее наоборот — где бы мы ни жили, везде мы чувствуем себя в одном и том же месте. Мы работаем где угодно: в лесу, в городе, на поле, в комнатах, в лодках и на ночной дороге; везде, где мы можем разговаривать друг с другом.
Мы сидим на веранде. В Будапеште, Луанг-Прабанге, Риме, на крыше в Сеуле или Катманду, на балконе нашей студии на Рабочей улице в Москве, в кафе в Порто или Кадакесе — везде тот же неподвижный поток, в который и дважды и трижды, и всегда можно войти опять.
Мы арендовали офис в Дрездене в пустом административном здании. Директор, представитель электората Пегиды и поклонник Путина, сдал нам комнату с условием, что мы не будем там жить. Мы поселились там вместе с нашим попугаем и скоро оккупировали весь этаж. Однажды мы составили список всех вещей в нашей комнате и поняли, что это что-то значит. Мы назвали эту работу «Общее тело». С тех пор мы фиксируем состояние этого тела, составляя новые списки наших вещей там, где нам случается находиться.
Тем же летом мы застряли в Барселоне без денег. Кроме этого, нам нужно было вылечиться от чесотки. Ночью в Зоопарке мы разделись, распылили друг на друга специальный спрей и стали ждать, пока он впитается в кожу. Лето было жаркое: когда внезапно включилась система полива газона, мы и наши вещи промокли моментально. Мы развесили все это сушиться на деревья вокруг ярко освещенной танцевальной арены и залезли на нее. У нас с собой был большой рулон бумаги, и мы стали рисовать на нем тушью пальмовыми листьями. Были ли мы уже ограблены? Конечно были.
Опись украденных вещей:
01. Тонкая нейлоновая кисть из Непала.
02. Каллиграфическая кисть из Китая.
03. Колокольчики для рыбной ловли.
04. Духи в стеклянном флаконе.
05. Связка ключей от квартиры.
06. MacBook Air, 13 дюймов.
07. Вязаный топ из Индии.
08. Леггинсы из китайского магазина в Венеции.
09. Розовая пластиковая папка. В ней три больших цветных бумажных конверта, на каждом круглая печать «Chaos Sense Delight» и надпись от руки «Common Body».
10. Карманная карта с нанесенными на нее рисунками и надписью «Magic Mold attacks Paris».
11. Документы на немецком языке. Mietvertrag, Dresden.
11. Записная книжка с записями.
12. Складной цветок из рисовой бумаги в самодельной подарочной упаковке с открыткой.
13. Ювелирные украшения: золотая цепочка на шею, медный браслет, колечко с бриллиантами, бронзовое кольцо с лунным камнем, индийский браслет на ногу, ожерелье из натурального жемчуга, серебряная цепочка с кулоном в виде черепахи из бирюзы.
14. Сандалии.
15. Папка с распечатками. Rosalind Epstein Krauss. Die Originalität der Avantgarde und andere Mythen der Moderne.
16. Гербарий.
Так выходит, что самые точные и тонкие высказывания о наших наблюдениях появляются в виде самых ничтожных свидетельств. События той ночи до сих пор задают масштаб нашей работе. И мы до сих пор находимся между протяженным объектом и событием в пространстве танцплощадки, увлеченные игрой, пока у нас за спиной кто-то уносит наши вещи. Этот багаж, бремя, с которым мы склонны себя отождествлять, служит только для того, чтобы расправлять, натягивать нашу личность, определенно, производя наподобие струны какой-то звук. Однажды разобрав мир на части до простого наличия, мы постоянно занимаемся попытками найти и пересобрать его в целостности, не теряя чувства подвешенности в пространстве свистящего сквозняка.
Эта ограниченная группа вещей становится нашим постоянным спутником, образуя что-то вроде общего тела, над которым мы с интересом наблюдаем; именно таинственная онтология вещей как нашего общего тела оказывается содержанием всех наших работ. Мы превращаем вещи в арт-объект, а потом возвращаем их к повседневному использованию. Их художественная жизнь моментальна и торжественна, они не становятся продуктом. Они возвращаются к своему истоку, обнаруживая на себе отпечаток — мерцающий след Незнания.
2. Любое
Концептуальное объяснение художественной работы может оказаться не чем иным, как подставой, способом не говорить о сути. У плодовых растений есть похожая стратегия выживания: плод растения, например, фрукт, состоит из твердого семени, ядра, которое необходимо перенести как можно дальше, и мягкой, сладкой мякоти.
Так что давайте перейдем к делу: вспомним баббл из комикса. Как графическое изображение речевого акта обычно он не бывает пустым: само его появление очерчивает единство какого-нибудь сообщения или реплики.
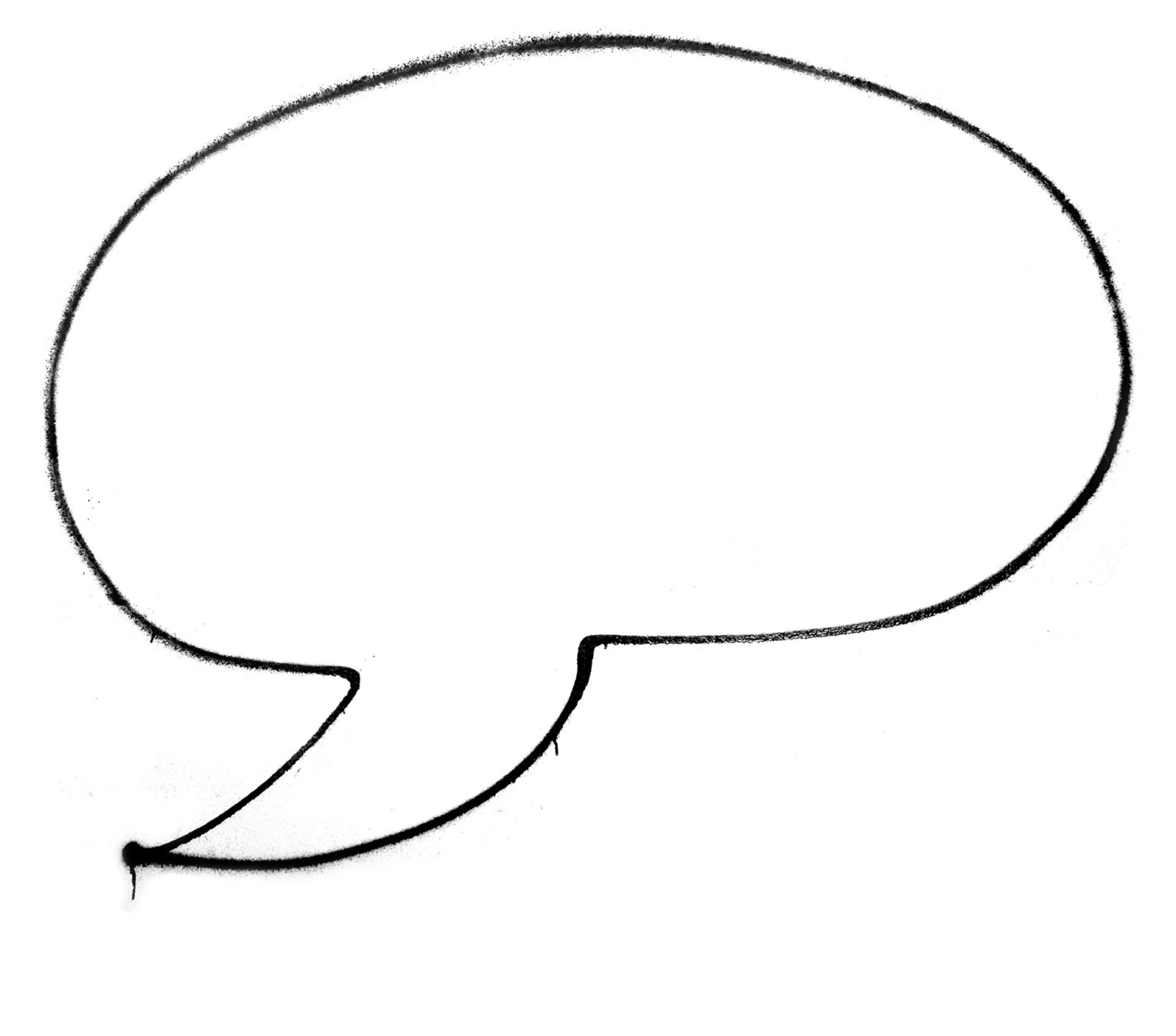
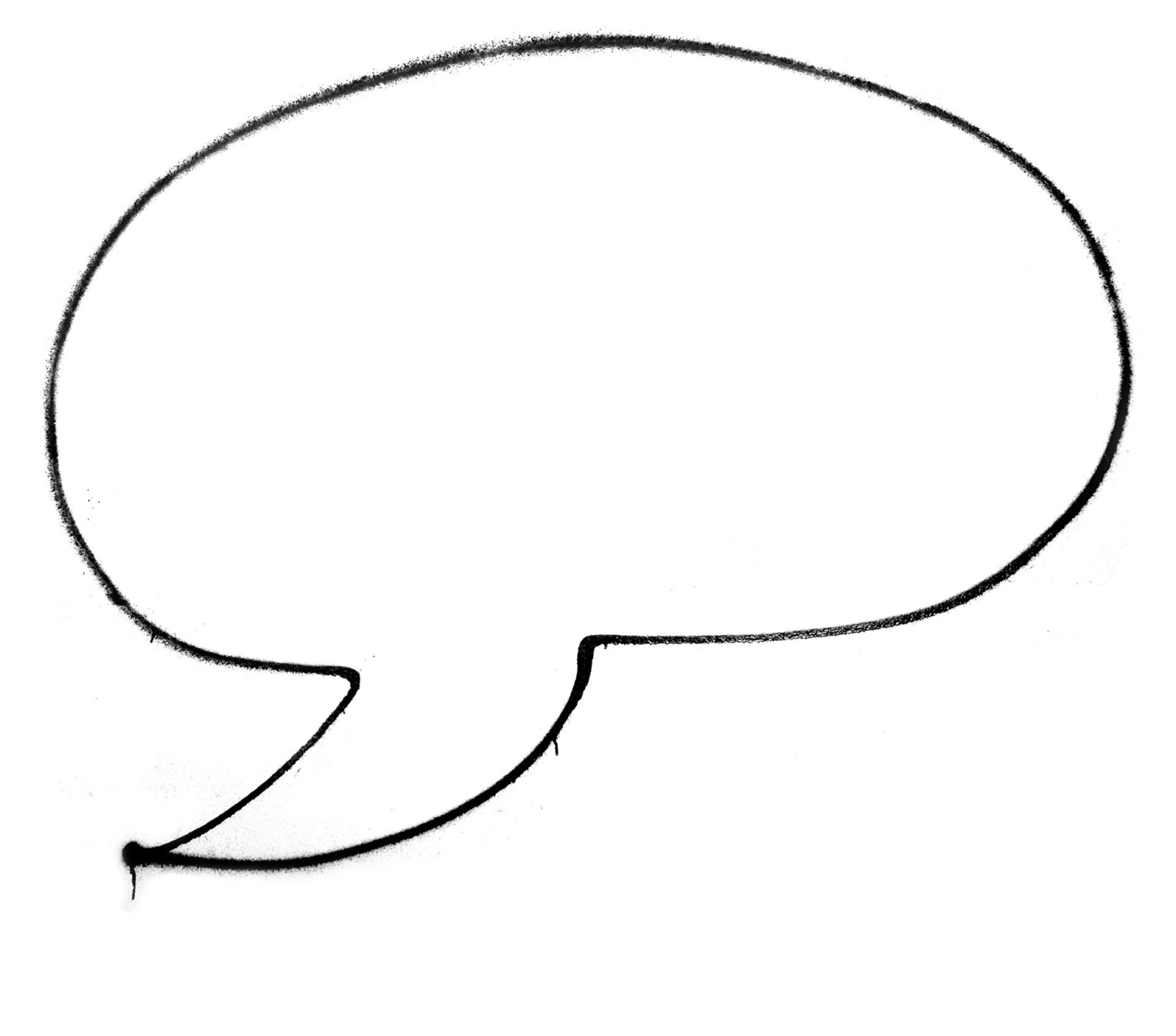
Группа Rabota, «Баббл», 2018. Граффити в подъезде на ул. Рабочая в Москве.
А что если убрать сообщение и оставить баббл пустым? Получится наглядное воплощение медиума без содержания, парадоксальная ситуация, в которой видимым становится то, что обычно бывает невидимо. Его условная онтология совпадает с его репрезентацией: он нарисован для того, чтобы предоставлять свою пустоту для чего угодно. Но ведь и саму пустоту баббла можно понимать как послание. Если развернуть эту идею, то можно сказать, что пустой баббл сообщает нам потенциал, готовность вместить любой объект, событие или мысль.
Пустой баббл — это уникальный случай видимости медиума без контента. Обычно медиум актуализируется содержанием, при этом он этим содержанием прикрыт. Стараясь ухватить медийную актуальность в борьбе с логикой спектакля и дискурсивной оккупацией, художникам зачастую приходится проводить специальные процедуры. Чтобы сделать медиум кино видимым, Ги Дебор прибегал к особым приемам повторения и произвольного монтажа. Зритель проваливается в монтажные разрывы и таким образом становится свидетелем медийного саморазоблачения.
Но для чего нам нужен пустой баббл?
Ну, может быть, для того чтобы очертить идею «вмещающей что угодно» пустоты, которую мы предлагаем называть Незнанием и обратить внимание на связь этой идеи Незнания как пустой потенциальности с природой медиума и «онтологией» художественного объекта. И еще: понимая пустой баббл как графическую актуализацию речевого акта, можно отметить особое значение идеи Незнания как политического феномена (припоминая Жака Рансьера). Незнание отмечает зону, в которой происходит выход из сокрытости и политическая субъективация тех, кто до этого оставался лишен голоса в общих дискурсивных системах.
В феврале 2020 на площадке музея Серлахиус Mänttä Rabota представила работу под названием «Любое». Это были обычные ботинки на подиуме в пустом зале с таким сопроводительным текстом: «Мы инсталлируем пустое место. Сейчас это место занято ботинками Антона, в следующий раз это будет что-то другое, это может быть что угодно».
В русском языке слово Любое обычно означает «неважно какое», но при этом оно относится к форме слова любить: любимое, что парадоксально противоположно обиходному значению слова «любое». На то же противоречие в латинском языке (в слове Quodlibet) указал Джорджо Агамбен в «Грядущем сообществе».
Чтобы пустое место не потерялось, не выпало из памяти и не слилось с тотальностью Незнания, оно должно быть чем-то занято. Художественные практики позволяют зафиксировать наличие этого места в пространстве и времени для того, чтобы обеспечить его культурную передачу и репрезентацию. Всегда можно обозначить актуальность этого произведения, поставив на это пустое место все, что угодно — Любое. Этот актуализирующий произведение объект приобретает значение эрзац-арт-объекта, единственная задача которого состоит в том, чтобы указывать на пустое место, создавать материальные условия для его условного хранения и репрезентации. Все остальные качества — сюжет, медиум, материальность акцидентны. Они происходят генетически от нас самих как от тех, кто эту работу материально произвел.


Группа Rabota, «Любое», 2020. Перформативная инсталляция, Музей Гёста Серлахиуса, г. Мянття-Вилппула.
Наша вещь — простая и странная; в этой странности может возникнуть сложность. Однажды в Будапеште мы нашли на берегу Дуная два камня. Мы наблюдали, как они взаимодействуют, играя со значением и числом. Мы выяснили, что камни бывают трех видов: камни, вещи, похожие на камни, и вещи, непохожие на камни.
В результате разработки мы построили топологическую матрицу, в которой камни служат переменными. «Камнем» в ней обозначено пустое место в матрице, которое может быть занято любым объектом. Топологическая матрица представляет собой простейшие расширяющиеся групповые структуры из шести объектов.
Топологическая матрица также может быть прочитана темпорально как переход от одного мыслительного события к другому во времени, их связи с прошлым событием и синтетическим единством всех этих событий вместе.
3. Опера
Непроницаемая стена институциональности имеет в себе проходы, которые Аксель Хайль нам обозначил так: «Институции — это люди». Это был его ответ на нашу идею использовать институциональность художественной системы муниципалитета Карлсруэ в качестве художественного медиума. «Посмотрим», — подумали мы, и вскоре у нас созрел план интервенции в музей ZKM. Мы взяли подробную консультацию у нашего друга Йоахима — он нарисовал нам схему, на которой были обозначены пути финансирования художественных проектов, и схему чиновников культурного ведомства, выдающих деньги на проекты. Мы приняли его советы к сведению, а схема стала сюжетом картины, вышитой Марикой на полотенце; это полотенце нам выдал Йоахим, когда мы впервые прибыли в Карлсруэ. Картину потом увидел один из этих чиновников и купил.
Наше прибытие заслуживает отдельного рассказа. Мы прилетели из Коломбо с 40 евро в кармане, чтобы сделать у Йоахима в галерее месячную выставку. За выставку мы не планировали получить никаких денег и жить собирались как обычно — неизвестно как то есть: посмотрим, разберемся. Надо сказать отдельное спасибо Йоахиму; его гостеприимству мы посвятили картину «Joachim—Duke of Karlsruhe». В конце концов Йоахим нашел нам работу — паять лампы для инсталляции Микаэля Белицкого в ZKM. За работу платили по нашим меркам космические бабки, но суть не в этом — по случаю мы впервые увидели, что такое ZKM и школа HfG изнутри. Тогда-то мы и определили это место для нашего вторжения. Будем называть это институциональным бредом (institutional rave).
Но для начала нам нужно было решить несколько моментов — официальный статус в здании и виза. Школа HfG — это то место, в котором преподавал Борис Гройс, Слотердайк был там ректором; генетически и административно оно связано с музеем ZKM, оно находится с музеем в одном здании так, что можно подумать, что школа — это если не экспонат музея, то точно один из его отделов. Если ты внедряешься в HfG — значит, ты внедряешься в ZKM. Мы догнали профессора Белицкого в холле ZKM, показали ему наши чертежи и попросили помочь нам заполучить статус студентов-гостей (такая гибридная должность без полномочий и прав, но с ключами от здания). Вторая проблема — виза, которая не позволяла нам более 90 дней пребывать в Германии. Эту проблему мы решили при помощи поездки в Андорру (кто знает — тот поймет) и, в принципе, теперь могли остаться полулегально в Германии, пока виза не истечет совсем.
Если коротко: наша идея состояла в том, чтобы разметить один год при помощи формального пропорционального принципа, заимствованного из волновой теории Гельмгольца, и провести в ключевые даты перформативные мероприятия с произвольным содержанием. Мы назвали это все Bubble Opera: опера — как работа, которая надувается или «надувает». Главное мероприятие должно было завершать серию: мы хотели подвесить краном огромную звучащую кучу мусора и нанять сто беженцев, живущих в лагере в соседнем лесу, чтобы они играли на палках со струнами. Постконцептуальный принцип произведения включал в себя действие шифтеров формы: этим инструментальным операторам мы присвоили имена руководителей СССР и России начиная с Брежнева.
Первое мероприятие прошло под управлением шифтера Горбачева. Ректором HfG был Зигфрид Зелинский, и мы пошли к нему с большими чертежами времени. Зелинскому понравилось, и он нас благословил на то, чтобы повесить схемы событий в фойе и получить доступ к большому залу, аппаратуре, а также помощи работников заведения. Были изготовлены: тираж афиш, баннеры на сайте, флаеры и так далее. Мы построили в зале гибридную инсталляцию, иронически отражающую картину происходящего в ZKM с точки зрения тех, кем мы на тот момент были — нищих нелегалов и бомжей: по одну сторону специально построенной стены было создано пространство пустой, заброшенной конференции с невразумительным «обучающим» видео, витриной с деревянными объектами и трибуной с микрофоном. Все это по задумке должно было утопать в когнитивном сфумато, озадачивая проходящих мимо посетителей музея. По другую сторону стены был сооружен профанирующий постмитьковский бэкстейдж с холодильником, кухней, диваном и медиатехникой. На нем-то и проходила наша встреча с публикой в практически домашней атмосфере. Мероприятие прошло успешно. Оно позволило нам заявить о себе и познакомиться с некоторыми профессорами и техническими работниками (что немаловажно). Надо добавить, что мы прямо в этом огромном здании и жили. Ставили палатку на одном из дальних лестничных пролетов, ходили утром мыться в общий душ, питались на музейных фуршетах, собирали бутылки, готовили на примусе.
Помимо больших перформативных мероприятий, мы производили также и небольшие акты интервенций. Воспользовавшись знакомством с техническим персоналом, мы заполучили большой громкоговоритель на стойке. Мы спрятали его в проходе из одного крыла ZKM и оставили там на две недели сообщать посетителям раз в пятнадцать минут «We use your ears now».
Следующая значительная актуализация Оперы произошла на территории выставки Open Codes. Каким-то необъяснимым образом нам удалось вставить наше участие в ее конференционную программу. Это была более сложная афера — буквально до самого начала «конференции, посвященной Огурцу Времени» нам требовалось блефовать. Когда мы начали конференцию при абсолютно пустом зале, назад дороги уже не было ни у кого. Стержнем конференции был иронический доклад о несуществующем Николае Шабаршове — «неизвестном самоцвете русского космизма» — полная ахинея, сопровождавшаяся изображениями пустых бабблов и взрывов из комиксов. Изюминкой «заброшенной конференции» стал стриминг из подмосковного города Электросталь, в котором с российской стороны участвовали хор бабушек «Оптимист» и критик Егор Софронов, сделавший также доклад, который, однако, из-за особенностей интерьера клуба в Электростали и операторской работы принял вид странный и двусмысленный. Мероприятие было исключительно удачным, но при этом слишком профанирующим. В результате наша институциональная неуязвимость оказалась подорвана. Наверное, в таких случаях следует балансировать на грани, чтобы никто не догадался наверняка; ведь пока нет ясности, игра может продолжаться в пространстве неопределенности.
Вслед за этим состоялась встреча с Петером Вайбелем, на которой мы развернули перед ним картину оркестра из ста беженцев, играющих на палках в фойе ZKM на фоне банкета. Со всех сторон неполиткорректная идея явно не синхронизировалась с советом попечителей музея: технологические и энергетические корпорации, на деньги которых существует ZKM. Он отверг наше предложение, и нам сразу стало неинтересно; мы уехали в Турцию, затем Грецию и Италию, чтобы продолжить работу в формате дрейфа. Началась Зона Незнания.
Сесть было негде. Мы стояли, пицца падала клочьями сквозь пальцы в темноту на грязный асфальт. Утром нас разбудили на причале рыбаки. Той ночью мы нашли на набережной красивый кошелек. Денег в нем было достаточное количество, чтобы купить билеты на паром до Палермо. Материалы Оперы мы закопали еще раньше в поле под Можайском.
4. Незнание
Теория и практики непроницаемо отделены друг от друга. Но странно не то, что они отдельны, а то, что они все же как-то взаимодействуют.
Незнание было снова введено в философский оборот Жоржем Батаем в некотором роде как противопоставление рациональности, разумности. Такое противопоставление разумности и Незнания рождает недоверие к истории и обществу, дает возможность делать вывод о «репрессивности знания», об освобождении от «оков рациональности», необходимости бунта против порядка, трансгрессии. Мы можем проследить последствия такого вывода на материале, который дает нам искусство. Мы увидим, что такой подход и стратегии, которые из него выводятся, ведут ко все большей бедности. Вопреки ожиданиям, вместо освобождения формы неограниченной рациональностью мы получаем сужающуюся перспективу унылых одинаково бесформенных объектов и идеологического фарша. Вместо свободы от разумности получаем спекулятивную иррациональную идеологию, ведущую к популизму и тирании.
Мы хотим оставить Жоржа Батая застывшим в жесте выхода из диалектики в Незнание и отправиться в XV век к Николаю Кузанскому. В своей книге «Об ученом незнании» он в традициях апофатической теологии проделывает тот же самый жест, но выводит нас в совершенно другую ситуацию. Николай Кузанский делает другие выводы. Он говорит о том, что Незнание является фундаментом мудрости, «подкладкой» любого знания. Он снимает противопоставление знания и Незнания. Такой подход нам кажется более перспективным для мышления — сама возможность мышления (Racio) оказывается обеспечена Незнанием.
Впервые Незнание возникло в наших разговорах как фактор, относящийся к феномену времени. Мы увидели Незнание как нечто, что вторгается из будущего в настоящее, формируя тем самым прошлое. Тогда мы работали над Оперой — процессуальным проектом длиной в один год, и Незнание в ней служило оператором планирования перформативных событий. Одним из таких событий, запланированных на все второе полугодие Оперы, должна была стать некая Зона Незнания, практика, которую мы принципиально, по логике концепта, не наполняли конкретным содержанием. Мы решили, что дадим произойти в это время чему угодно и не будем планировать ничего конкретного.
Когда подошло время Зоны Незнания, мы оказались в Турции на пути из Антальи в Адрасан. Путь этот пролегал через лес, вдоль моря и занял в итоге месяц или полтора с перерывом — нам пришлось смотаться на пару дней в Москву, чтобы встретиться с одним чудаком в башне Москва-сити (этот человек собирался создать общероссийскую масонскую ложу нового типа и просил нас ему в этом помочь). Когда мы вернулись на тропу, то продолжили двигаться вперед безо всяких планов на завтрашний день и будущее вообще. Впереди у нас были Рим, город Владимир, Афины, Неаполь и Палермо.
Размеченная как вторая половина годового проекта Зона Незнания закончилась тем, что нам пришлось закопать все наши вещи в поле под Можайском и улететь во Вьетнам.
В Ханойском аэропорту нас встречал едкий тропический закат и незабываемый запах горящего пластика, как в Катманду: странно, но такая гадость тоже может вызывать ностальгические чувства. Бетонные мосты направляли движение реки, под пролетами тоже все ехали без конца, жгли пластик, жарили кур. Мы стояли на самом верху и смотрели на огни.
И вот что мы заметили: Зона Незнания закончилась, но само Незнание осталось с нами, но уже не как фактор времени, а как нечто, относящееся к бытию как таковому. Оно стало фоном всех событий и объектов. Мы стали много об этом думать и говорить. После полугодового медленного сползания по Индокитаю с островов северного Вьетнама через дебри Лаоса, мы застряли в глухой провинции Таиланда перед огромным пустым пляжем, на котором никогда не было никого, кроме нас и собак. У нас совсем закончились деньги, а незнание стало фактом повседневности. Мы жили в доме местного знахаря, который кормил нас рисом и фруктами, которые приносили ему пациенты, и целыми днями говорили друг с другом. У нас сложилась система медийной механики, в которой Незнание выполняет функцию оператора автономии любого субъекта, а также обеспечивает объективацию вещей. Наблюдая урбанизацию и загрязнение южной Азии, мы стали отмечать связь феномена мусора и Незнания. Концепция Эстетики Незнания приобрела значение Медийной Экологии. Эти наблюдения мы записали в виде тезисов, которые можно объединить общей темой Эстетики Незнания.


Группа Rabota, «26.03.2019 Сеул», 2019. Фотография, Сеул.
Через полтора месяца продуктивного отчаяния ситуация неожиданно разрешилась приглашением в резиденцию SASG в Сеуле, и это был наш шанс выбраться. В Сеуле мы получили возможность спокойно заняться теоретическими исследованиями Незнания, поисками его следов в истории мысли и искусства. Как это обычно и происходит, оказалось, что то, что открылось нам как опыт откровения, является не только актуальной темой истории философии, но и ключевой темой философии искусства. В Сеуле мы открыли для себя работы Николая Кузанского, Жоржа Батая, Джорджо Агамбена, Жака Рансьера и других авторов, прямо или косвенно обращавшихся к теме Незнания. Наша практика оказалась вписана в теоретическую рамку задним числом. В это время мы начали осознанно использовать аппарат Эстетики Незнания в художественных работах.
5. Labridae
Наш первый день в Греции начинался в четыре часа утра как кошмар, который с каждой минутой усугублялся. Вечер мы встретили в ста двадцати километрах от Афин, в месте, где, как мы потом узнали, по легенде проходил знаменитый баттл Гомера с Гесиодом. С большим трудом мы нашли клочок земли между грязным морем и дорогой, на котором можно было расстелить одеяло для ночлега. Наша работа сегодня — провести ночь в этом странном месте и посмотреть, что будет завтра, послезавтра и так далее, пока мы не доберемся до места. Дорога отсюда до Port 25 в Мангейме, которую мы неизвестно как проделаем за десять дней, станет инструментом, создающим произведение, а странности, которые часто происходят в таких ситуациях, как наша, станут его содержанием.
Наша работа состоит в том, чтобы не работать. Простое определение, которое, однако, можно развернуть через наше название. «Работа» означает одновременно как минимум три вещи. Труд, предмет, созданный в результате производства, а также профессию. Труд художника в наших социальных условиях исключен из общественного признания. Художник в ситуации полной ненадежности и постоянного риска представляет революционный класс. Наша собственная революция заявляет о прекращении производства искусства в пользу созерцания и мышления. Мы воспринимаем нашу работу как ежедневную постоянную волю к творческому вспоминанию и воссозданию мира и самих себя, как ежедневный непродуктивный схолический труд, подобный труду таксиста или мойщика окон. Если общество поглощает пространство политики, превращая искусство в объект потребления, мы в ответ на это приходим на территорию труда и делаем невидимый существующий-в-себе художественный акт предметом общественных отношений.
В начале марта 2020 года мы были в Москве. Границы закрывались, надвигались и более жесткие карантинные меры, в условиях, которых Антон как иностранец оказался бы на территории России вне закона. Это напрямую угрожало как нашей совместной жизни, так и художественной работе; поэтому мы решили ускользнуть из-под контроля. Нам удалось до полного локдауна вырваться на неподконтрольную территорию, чтобы пережить сложное время, продолжая вместе жить и работать.
Искусство вплетено в историю, условия и смыслы отражаются в нем и отпечатываются надолго. Можно решить, что это ткань культуры рождает искусство, но художник знает, что его исток находится за пределами. Более четырех месяцев мы скрывались вдвоем на необитаемом полуострове, осмысляя наше действие как перформативную практику, суть которой в основании Зон Незнания — лакун и обходных тоннелей, принимая необеспеченность и безосновность как перформативные условия, а обстоятельства как материал для ее разворачивания.
Чтобы превратить такую скрытую, непродуктивную практику в инструмент искусства, для того чтобы художник со своим делом-в-себе стал видим, нужно открыть для него пространство публичности, для чего необходимо появление особой фигуры постороннего наблюдателя, осуществляющего практику материализации, в которой рендерится этот безосновный и бесцельный процесс. В результате такой материализации непроизводительные практики художника приобретают качества перцепта, который в определенный момент можно синхронизировать с восприятием зрителя, сделать объектом хранения и передачи.
Как рыбы семейства Labridae, которые в экстремальных обстоятельствах способны менять пол, мы выделили такого наблюдателя из самих себя. Этот иной, кураторский модус действий позволяет нам синтетически совмещать непроизводительные практики, такие, как Зоны Незнания, с материализацией, коммуникацией и презентацией. Материал, полученный в результате фиксации подобной непродуктивной художественной работы, такой, как документальная видео- и фотосъемка, аудиозаписи, блокноты, списки вещей, карты и сами вещи, выступает в роли эрзац-объектов для материализаций и рематериализаций художественных работ без специального художественного производства.
Такой практикой стало создание произведения The Tunnel, впервые актуализированного на фестивале New Performance Turku в Финляндии по следам нашего укрытия от биополитики карантина. Ядро произведения — список в формате текстового файла в универсальной цифровой кодировке, который мы передали в Финляндию по электронной почте (границы закрыты). В этом списке перечисление всех вещей, которые представляли наше личное имущество во время укрытия на необитаемом полуострове. Список вещей служит партитурой для его рематериализации в виде перформативной инсталляции.
Перформативная инсталляция The Tunnel — эта рематериализация списка вещей в реальном пространстве как объекта художественного опыта была показана на фестивальной площадке в сентябре 2020 при соавторстве кураторов фестиваля — как самостоятельная интерпретация. Работа представляет идею непроизводительной, но спектакулярной художественной практики, в которой перформативность прямо исходит из повседневной жизни художников, обнажая политическое значение присутствия.
6. Ничего не вышло
—Oh my god, — сказал Белармино, закрыв черными руками лицо. Мы показали ему видео, на котором мы идем по жирному, черному от грязи снегу на улице Буракова в Москве. Марика носила альпийские снегоступы, Антону купили в Питере на Уделке черную козлиную шубу до земли и лопарьские тапочки из тюленя. Мы жили в Реутово и каждый день ночью сначала полтора часа ехали на трамвае, всегда зайцем, а потом пробирались пешком за МКАД, где за гудящей линией электропередач стоял наш дом, за домом гаражи, а дальше тайга. Денег у нас тогда не было почти совсем, бюджет на день — рублей семьдесят: в магазине Атак на эту сумму можно было взять пакет молока, половинку хлеба, два банана и халву за 14 рублей. Мы жили в таком режиме уже около полугода, и те четыре или пять тысяч, которые остались у нас после покупки материалов для проекта на деньги фонда, дали нам возможность хорошо продержаться еще месяц до весны, когда мы рванули автостопом в Будапешт. Чтобы нам не пришлось никому объяснять, чем занимаемся, мы решили высадить рассаду в четырехстах пластиковых стаканах просто для отвода глаз, чтобы спокойно, пока растет трава, присмотреться к тому, что вообще в мастерской происходит, и что можно сделать. Мы тогда начали работать с идеей медийного бреда. Оголтелая атмосфера мастерской идеально для этого подходила. Подробное описание происходивших на наших глазах драматических событий мы оставим другим авторам. Для нас резиденция была продолжением непрерывно длящегося падения в виде танца, которым мы тогда и занимались. Мы построили проволочный куб, который служил для него пространственной разметкой, и снимали кино, из которого ничего не вышло.
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.


























