Главные работы 2014 года
Не удовлетворившись предсказуемыми списками других изданий, мы составили свой – 50 важнейших работ прошедшего года, которые точно отразили тенденции, надежды, страхи и – простите за пафос – дух времени.
Обычно итоги подводят в конце года. Редакция Aroundart решила нарушить устоявшуюся традицию и взять тайм-аут. Не удовлетворившись предсказуемыми списками других изданий, мы составили свой – 50 важнейших работ прошедшего года, которые, возможно, не наделали столько шума, сколько очередная инсталляция Ильи Кабакова, зато точно отразили тенденции, надежды, страхи и – простите за пафос – дух времени.
Мы хотели выбрать новые работы российских художников, показанные в России, но несколько исключений в списке все же есть. Более важным критерием при выборе произведений было их отношение к российскому контексту. Некоторые из работ были показаны не в первый раз, но иначе, радикально отразив существующие противоречия. Список составлен на основе опроса семи постоянных авторов Aroundart, тексты были написаны ими же. Данный список не является рейтингом: работы, которые идут в начале, мы не считаем более важными. Скорее, мы хотели выстроить некий нарратив из проблемных тем и ключевых эстетических принципов.
«Похороны Курбе» Евгения Гранильщикова
Музей Москвы, в рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства, 26 июня – 10 августа 2014
Девушка рассказывает о паническом страхе перед самолетами. Художница – о взаимодействии с куратором. «Я подарю тебе сто тысяч сигарет», – Вентура, герой фильмов Педру Кошты, читает свое пронзительное письмо. СМС: «Мы все проебали?». Кто-то рассуждает о разочаровании во всех социальных ролях. ОМОНовцы скручивают людей, пришедших на митинг Манежную площадь. Сквозь розовый дым падают блестки.
Работа Гранильщикова, наверное, самое интересное, что произошло в российском кино и видео за последний год. Это опыт художественного исследования, постановочный документ, который прорывается к жизни через ее собственные категории – дыхание и длительность, прерывистость и сбитую нарративность, не знающую начала и конца. Он снят на телефон, что не лишает картинку визуальной привлекательности, но оставляет ее сырой, будто незавершенной, неотредактированной. «Похороны» напоминают о последних фильмах Годара, о Гранриейе, о Мигеле Гомеше и других режиссерах, которые пытаются найти выходы к действительности и уловить ее смутное течение. Реализма нет больше (потому, собственно, и «Похороны Курбе»), сюжеты и нарративы уже не отражают происходящее. Гранильщиков редуцирует разделение на документальное и выдуманное, игровое – сейчас оно не имеет никакого смысла. Все является документом, и художественное произведение – в первую очередь
Эта эстетика оказывается самой четкой, убедительной и искренней для того, чтобы сделать высказывание о поколении, о тех, кому от «немного за 20» до «немного за 30», о тех, кто живет без опоры и фундамента, словно в книгах Паоло Вирно. Показанный впервые на Международной биеннале молодого искусства в Москве, он удачно вписался в кураторский проект Дэвида Элиота, стал лейтмотивом «Времени мечтать». Фильм «Похороны Курбе» не политический и не о политике, но воспринимать его в отрыве от того, что нас окружает и душит, нельзя, невозможно. Может, следующее поколение из несбывшегося светлого будущего, посмотрев «Похороны» лет через 30, будет думать по-другому. Будет думать, что это рассказ о поколении, которое предпочло вечеринки и разговоры о бесконечно прекрасных фильмах и книгах, делу, кто не смог ничего изменить и сделать. И этот художественный документ, не имеющий модальности, превратится в инвективу и даже сатиру. Что мы сможем сказать им в свое оправдание? – Елена Ищенко
«Синяк» Анастасии Потемкиной
Культурное пространство «Тайга», СПб, 25 июля – 7 сентября
Документальные фотографии похожи на модные хипстерские снимки, акварельные зарисовки – на сладкие этюды, где карикатурная одухотворенная искусствоведица непременно заметит «руку мастера». На них запечатлены раны, синяки и ссадины разной степени заживленности. Рядом с ними – видео, в котором художнице набивают татуировку в виде синяка, и посвященный этому же событию фотоальбом. Происхождение синяков остается неизвестным: транспортная авария, неудачный опыт освоения скейтборда или бытовое насилие? Куратор Паршиков склоняется к последнему, но это – лишь одна из версий. Кто может быть автором этих снимков и зарисовок: сам пострадавший, изживающий травму через методичное повторение, или пытливый исследователь, холодно фиксирующий факт для последующего анализа? Невольно вспоминаются рисунки из анатомических атласов, шокирующие своим содержанием, но великолепные в исполнении, или документальные снимки из «горячих точек» (допустим те, что отмечены ежегодной премией World Press Photo). Потемкина, поместив обе серии фотографий и акварелей под стекло музейных витрин, напоминает об извечной проблеме контекста, который может в два счета переключить высказывание на противоположное – например, сочувствие пострадавшему оборачивается любованием абстракцией кровоподтеков (а сознательный жест татуировки – экстравагантной шуткой). Но если уйти от частностей искусства и вспомнить о том, что это фотографии и документальная зарисовка, то вопрос контекста распространяется шире – на документ как таковой. По сути любой документ нейтрален, и не защищенный сопутствующими обстоятельствами может рассказать историю ровно противоположную исходным координатам (что мы все чаще наблюдаем в СМИ). Художница с потрясающей меткостью выбирая тему и медиум, подчеркивает реальность сегодняшнего дня: в массмедийной бездне становится все равно происхождение документа (его документальность или постановочность, время и место создания), потому что с самого рождения он оказывается предметом манипуляций и безусловной жертвой конкретного контекста. – Ольга Данилкина
«Вне зоны видимости» Михаила Толмачева
Центральный музей Вооруженных сил РФ, 24 апреля — 7 октября
Михаил Толмачев пришел в Музей Вооруженных сил России и перевернул его с ног на голову. Привычному представлению о войне, где существуют только «за» и «против», «враги» и «наши», «фашисты» и «освободители», художник противопоставил пристальный внимательный взгляд художественной субъективности. На выставке не было привычных объектов — практически все Толмачев нашел в архивах музея, скрупулезно сопоставив с постоянной, десятилетиями не меняющейся экспозицией — все, что не принято показывать, все, что не считается документом — от инвентарных карточек экспонатов до военной графики и даже картин. Это не по-пропагандистски сухие факты новостей, не массмедийная тотальность выкриков — за ними скрываются личности и сила субъективного взгляда. Именно его художник наделяет силой документа — потому что в ситуации тотальной войны нельзя проверить достоверность предлагаемых массмедиа (и большими государственными музеями) фактов. Толмачев последовательно работает с функцией зрения: располагает объекты против движения, заставляет вчитываться в инвентарные карточки, объективность которых тоже дает сбой — то и дело в них проскальзывают слова «враг» или «фашист», всматриваться в рябящие видео с БТРов российских солдат в Афганистане, вслушиваться в часовые интервью с военными фотографами. Танки — это не про славную историю российских войск, они убивают. Толмачев возвращает самому зрению возможность сомнения, а фактам — субъективность, за которой вдруг открывается простор для формирования идентичности, всегда остающейся вне зоны видимости в эпоху нескончаемой войны. – Е. И.
«23 февраля / 10 мая» и «Элиминация» Аслана Гайсумова
- «23 февраля / 10 мая», Аслан Гайсумов, 2012 — 2014
МСИ «Гараж», «Без названия… (местные из неотсюда)», 7 июля — 10 августа // Первый кадетский корпус, Санкт-Петербург, Manifesta 10, Generation СТАРТ, 28 июня – 31 октября
Показанные в прошлом году, эти две работы Гайсумова, кажется, заговорили с нами по-но-новому. О них почти ничего не писали, кажется, истратив все внимание на другой проект Аслана, более известный и, если честно, приевшийся. Гайсумов – один из немногих (можно вспомнить разве что Таус Махачеву), кто методично работает с темами национальной памяти, травмы и истории, не скатываясь при этом в самоэкзотизацию, не превращая элементы народной культуры в декор, а возвращая им статус документа – истории и эпохи, травм и трагедий.
«23 февраля / 10 мая» – видео, посвященное странному, не укладывающемуся в голове событию: в 2011 году власти Чеченской республики приняли решение о переносе всех траурных дат (среди них – 23 февраля – день советской депортации чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию) на один день, 10 мая. На экране – бабушка художника в современной национальной одежде на фоне меняющейся обстановки: горный пейзаж, платья погибших при депортации сестер, в окне восстановленного после военных действий дома, у входа в подвал-бомбоубежище. Национальные символы – будь то платье или Кавказские горы – выступают здесь как документы трагических событий: депортация, смерть, возвращение, война, разрушенные дома. Эта работа лишена публицистичности и однозначных призывов, но в центре ее оказывается отобранная государством и политиками память о национальном горе (не зря сменяющиеся планы никак не объясняются, оставляя смутное чувство утраты) и требование ее освобождения.
«Элиминация» – ворота чеченских домов, высокие и непроницаемые, с символами Олимпиады-80 и следами пуль нескольких Чеченских войн. Простой объект, документ войны, обладающий при этом амбивалентностью: «Элиминация» – свидетельство не только жестокости, но и закрытости чеченский семей – свет за высокие ворота с оптимистической советской эмблемой проникает только через дырки от пуль.
Работы Аслана становятся отражением нового витка постколониальных отношений. В «23 февраля / 10 мая» угнетение принимает вполне оптимистичные формы – ведь речь идет об общенациональных праздниках, которые должны быть важнее национального и уже минувшего горя. Но забыть о травме невозможно – напоминает окружающая вещная среда. Гайсумов предъявляет не экзотический товар, а объекты-свидетельства и объекты-документы, будто возвращая лоску курортов Северного Кавказа и их же бандитско-террористическому ореолу утраченные реальность и смысл. – Е. И.
«Дебаты о разрыве» «Фабрики найденных одежд»
Manifesta 10, Санкт-Петербург, 13 июля 2014
«Дебаты о разрыве», как и предыдущий перформанс художницы Final Cut (ставший последним в жизни группы «Фабрика найденных одежде», после чего его участницы Глюкля и Цапля продолжили каждая свою собственную карьеру), построен на живой речи участников. Прямые или косвенные очевидцы разных событий, представители различных социальных полей, носители всевозможных идентичностей. Живая, ничем не стесненная речь в противовес манипулятивному встраиванию цитат в «правильный» контекст. Непосредственное свидетельство в противовес медийной репрезентации.
Ни один нарратив не может претендовать на абсолютную подлинность и истину: слишком много привходящих обстоятельств, слишком много всего остается за кадром. В то же время прямая речь неизбежно изобилует любопытными подробностями и деталями, позволяющими не только ощутить, пусть и частично, привкус конкретного времени и пространства, но и фрагментарно обрисовывают контекст, внутри которого находится говорящий. Произведения документального жанра всегда богаты подобной фактурой. Она не претендует на смысловую завершенность, но – что гораздо существеннее – оставляет пространство для сопоставлений и интерпретаций.
Что не менее важно в «Дебатах» (и что отчетливо присутствовало также и в Final Cut) – это аксиоматическое постулирование разнообразия мира, в котором несовпадающие идентичности становятся не барьерами и препятствиями, разобщающими людей, но как единственно возможной – объединяющая и примиряющая – «нормальностью» жизни. Несмотря на болезненные «разрывы», которые хоть и разделяют людей на время, но одновременно становятся поводом для нового диалога. – Валерий Леденев
Подробный репортаж о перформансе Глюкли в нашем материале
«Ушли» Игоря Панина
- Игорь Панин
- Игорь Панин
КБ «Сигнал», Санкт-Петербург, «Сигнал», 23 мая – 29 июня 2014
Инсталляция Игоря Панина «Ушли» была показана на выставке СИГНАЛ, которая проходила на территории одноименного брошенного советского конструкторского бюро. Проект строился на контекстуальных высказываниях, художники выступили археологами, выискивая среди оставленных инструментов, чертежей, мебели и личных вещей сотрудников предприятия необходимые для работ средства. Панин своей работой поставил вопрос: действительно ли советские работники покинули здание? Он использовал брошенную ими обувь (к слову, довольно странно, по-моему, почему работники бюро ее не забрали); стоптанная, потрепанная и покрытая пылью, она была похожа на посмертные маски или живые энергетические слепки. Запахи, тепло – невидимое присутствие бывших обитателей стало для меня так очевидно, что каждый раз, когда я натыкалась на эту работу глазами, мне было не по себе. Ряды обуви выглядели как невидимый отряд прошлого, которое никуда не уйдет и никогда не оставит нас в покое. Благодаря инсталляции Панина, очевидной для меня также стала та невидимая сила советского, которое сидит внутри нас и незримое влияние которого я ощущаю на себе, хотя родилась незадолго до распада Союза. И это влияние сегодня становится сильнее с каждым днем. – Лизавета Матвеева
Observatorium Анны Титовой и Станислава Шурипы
- Фрагмент проекта Observatorium, Manifesta 10, Санкт-Петербург, 2014
- Фрагмент проекта Observatorium, Manifesta 10, Санкт-Петербург, 2014
- Фрагмент проекта Observatorium, Manifesta 10, Санкт-Петербург, 2014
Ковенский переулок 14, 2Н, Санкт-Петербург, Manifesta 10, 27 июня – 27 июля
Выставка-мистификация Титовой и Шурипы заняла флигель жилого дома в центре Петербурга и состояла из документаций, артефактов и их имитаций. Дотошная дешифровка объектов загадочного обитателя, который исчез, бросив всё на своих местах, попытка систематизации и экспонирования хотя бы малой части found art – выставка стала лабораторией, музеем и обсерваторией в одном. Её драматизм заманивал зрителя в самые глубины экспозиционного лабиринта. Отличить реальные вещи лирического героя от их реконструкций почти не представлялось возможным. Этот персонаж с удивительной маниакальностью развивал свою личную «теорию заговора», превратив дом в секретное бюро расследований.
Observatorium Титовой и Шурипы, на мой взгляд, подтверждает закономерность, о которой рассказывал и писал Виктор Мизиано в своих лекциях о кураторстве: биеннале и другие регулярные фестивали определяют тенденции и круг интересов на будущие годы. «Энциклопедический дворец» Массимилиано Джони на Венецианской биеннале в 2013 году стал собранием разных форм художественных и не очень девиаций, одержимостей – эту идею продолжает проект Observatorium, расширяя круг «обезумевших» до всех обитателей Земли, каждый из которых оказывается под влиянием СМИ. Здоровых людей нет — это давно известно, а встретить «нормального» человека страшно. – Л. М.
Подробнее о проекте Observatorium читайте в нашем материале
«Это есть, тебя нет» Александры Сухаревой
Главный штаб, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Основной проект европейской биеннале Manifesta 10, 28 июня – 31 октября 2014
Инсталляция Александры Сухаревой «Это есть, тебя нет» – одна из немногих работ российских живущих художников на выставке Основного проекта «Манифесты 10» и, на мой взгляд, чуть ли не самая важная. В основном, конечно, все были под впечатлением от Хиршхорна и тончайшую и глубокую работу Сухаревой практически не заметили. Шестиугольное пространство, засыпанное сеном, объединило found art, старые зеркала, фотографии и письма из архивов Великой Отечественной Войны. Лабиринт, в котором собраны отдельные, как будто не связанные между собой детали: читаешь тексты, утыкаешься взглядом в помутневшее зеркало – одно, второе. Листы бумаги на наклонных полках так и норовят соскользнуть на пол от малейшего движения воздуха, что, по-моему, и произошло под конец биеннале, очевидно, от наплыва посетителей. Под полками серебряная бутылка от кока-колы. Ощущение беспорядка, заброшенности. Инсталляция-конструктор, инсталляция-лабиринт про следы, которые мы оставляем, как, например, «наследили» в этой работе посетители «Манифесты» – слишком велик был соблазн что-нибудь потрогать.
Обращенность в прошлое и визуализация того, как каждый из нас собран из следов прошлого, мест памяти, – жест по природе своей психоаналитический и актуальный. Сегодня все сложнее найти ответы на волнующие нас вопросы, но можно помочь самому себе и вспомнить что-то важное, оглянувшись назад. – Л. М.
«Без названия» Наташи Тимофеевой
Галерея «Электрозавод», 17 октября – 1 ноября
Инсталляция Тимофеевой обволакивает пустотой. Колонны из строительной сетки (образец хрупкости) повторяют форму бетонных несущих конструкций (образец нерушимости). Они трепетно оберегают пустоту внутри себя и намечают незаполненное пространство снаружи. Пустое пространство – не пестрящее объектами, образами или смыслами – явление высочайшей ценности в местном коммьюнити, да и в любой городской среде высокой стоимости квадратных метров. Секунды тишины ничего не манифестируют. Пунктир сетки намечает возможные варианты конфигурации пространства, он же эти робкие намерения защищает от окружающего (и окружающее от них). Получается деликатный шепот, а не крик или даже ровный монолог. Такой шепот становится оттеняющим фоном для окружающего шума самоуверенных, но от этого еще более неуклюжих высказываний, какофонией обрушившихся на московского зрителя «молодых искусств» в последний год. Тимофеевой с поддержкой куратора Филиппова удалось создать пространство щемящей эфемерности момента. Оно вобрало в себя, кажется, все самое главное для молодых арт-деятелей, условно объединенных вокруг «Электрозавода» (вернее – солидарных их позиции), – волю к автономности и эскапизму ради тишины, в которой они хотят быть услышанными. – О. Д.
«Несущая конструкция» и «Движение людей» Димы Филиппова
- «Несущая конструкция», 2014 // Фото: МСИ «Гараж«
- Работа на выставке «Там …>, где нас нет», МСИ «Гараж», Москва, 2014 // Фото: МСИ «Гараж«
- Дмитрий Филиппов, Движение людей, Дивногорье, 2014
- Движение людей, Дивногорье, 2014
МСИ «Гараж», «Там <…>, где нас нет», 5 – 28 февраля 2014 // Итоговая выставка участников арт-резиденцим «Если бы..», в рамках фестиваля современного искусства «Чернозём», Воронеж, Дивногорье, августа 2014
Работы выпускника ИПСИ и одного из основателей некоммерческой галереи «Электрозавод» отличает укорененность в местном ландшафте и зачарованность западным лэнд-артом в его исконном изводе. В работах Филиппова «Коллективные действия» встречаются с Робертом Смитсоном и Уолтером де Марией. 800-килограммовая труба, показанная на выставке «Там <…>, где нас нет» в Project Space МСИ «Гараж», – пример нового витка институциональной критики. Она отсылает одновременно и к нефти (привет Абрамовичу), и к временному зданию новоиспеченного музея, повторяя декоративные и нефункциональные колонны, использованные в оформлении фасада. Кроме того, Филиппов возложил все трудности по доставке своего рэди-мейда на «Гараж», большую и богатую арт-институцию, по сути, заставив ее возиться с объектом ее же и критикующим.
Работа «Движение людей», сделанная в рамках арт-резиденции «Если бы…» в Воронеже, стала своего рода идеальным лэнд-арт объектом: огромная красная лента, протянутая по зеленым холмам, и небольшой сопроводительный баннер с письмом и фотографией отца художника на фоне алтайского пейзажа. Эта работа неразрывно связана контекстами места экспонирования (местечко Дивногорье в Воронежской области помнит множество кочевных народов) и советского прошлого, в котором личное переплетается с общественным. «Движение людей» – это история и всех советских людей, новых кочевников, и отца художника, попавшего под распределение и оказавшегося на Алтае.
Выпускников ИПСИ нередко обвиняют в тотальном производстве сугубо западного продукта. Филиппов, конечно, не первый, кто эту ситуацию меняет, но, возможно, единственный, кто находит в российской и советской действительности простор для лэнд-арта и минимализма. Западную художественную традицию он использует, чтобы найти связь с утраченным временем, понять прошлое и себя. В этом открывается диалог, в разной степени касающийся всего молодого поколения: знающие современное западное искусство (благодаря интернету) лучше, чем российское, они пытаются высечь из диалога двух географий и двух систем искру нового смысла. – Е. И.
«Башни» группы «Север-7»
- «Башни», проект в рамках параллельной программы Манифесты 10, 2014 // База «Север-7″, СПб
- «Башня» Олега Хмелева
- «Башня» Александр Цикаришвили
- «Башня» Нестора Энгельке
- «Башня» Петра Дьякова
База «Север-7», Санкт-Петербург, 20 июня – 20 сентября 2014
В 2014-м году начала выставляться публично группа «Север-7»: оба СИГНАЛа, Арт-проспект и параллельная программа Manifesta 10, под знаком которой прошел весь этот год в Петербурге. Участники группы организовали проект «Башни» – процессуальная по своей сути история, эксперимент как для зрителей, так и для самих «северян».
По замыслу каждый художник должен был построить башню: кто-то сделал это из фарфоровых чашек, кто-то – из целлофана, кто-то – из мангалов. Строительство высоток в цокольном этаже с самого начала представлялось чем-то утопическим и в итоге растянулось на все лето. Двери Базы были открыты на все время проекта, но башни появились только к концу.
«Башни», как мне кажется, тот самый случай, когда готовое материальное произведение имело меньшее значение, чем то, что происходило в процессе создания или даже обычного ничегонеделания, некоего зависания. Сегодня, как мы видели на примере «Манифесты» или как теперь происходит с любым другим крупным проектом, большее внимание профессиональной публики, зрителей, СМИ уделяется не итогу, а смакованию подробностей подготовки и фантазированию, как и что это будет. Сама выставка как будто не так важна так, как то, что ей предшествует.
«Север-7» сконструировали ситуацию взаимодействия друг с другом и со зрителем, где эти предположения, фантазии и толки могли прозвучать непосредственно в среде формирования общего тела выставки и повлиять на результат. – Л. М.
«Место присутствия» Андрея Красулина (куратор Николай Наседкин)
Музей архитектуры, флигель «Руина», 15 ноября – 14 декабря
В момент, когда, казалось бы, современное искусство в России имеет максимальное количество возможностей для показа, художник Наседкин кураторским жестом воссоздает пространство, противоположное любой его широкой форме – мастерскую художника. У мастерской в России особая история: советское подпольное искусство годами обитало только в уютных комнатах под пристальным взглядом художника и его малочисленных коллег. Такой зритель не нуждался в чистом пространстве и ясных текстах экспликаций, а произведение – в защите права быть на своем месте. Способность сосредоточенно видеть и различать с тех пор поделилась на два образно-насыщенной повседневной средой и будто рассеялась пропорционально росту количества зрителей.
Таким образом, вывалить в само по себе выразительное помещение флигеля «Руина» работы и прочее содержимое святая святых художника, создав из этого сложное многоуровневое пространство, не защищенное ничем (кроме формального статуса музея), – это смелый эксперимент. И искусство Красулина для него – более чем актуальный и звучный материал. Исследователи отмечают его связь с художественной культурой «органики» авангардиста Матюшина, в которой художник «не устанавливает порядок в мире, <.…> а делает его явным» (Г. Ельшевская). Скульптор-монументалист по образованию, Красулин работает с материалом так, что следов его руки практически не видно, а на первый план выходит пластическое качество – «свидетельство жизни материи» (Д. Сарабьянов). Так «внешняя видимость мастерства (художника) уходит вглубь» (там же). И чем же оно оказывается? Способностью замедлиться и сосредоточить внимание для того, чтобы видеть и различать совершенство вещей в их естественном порядке. В одной из бесед Красулин рассказывал, как у него «долгое время жила великолепная сосновая щепка. И надо было как-то – ведь помрешь, так выкинут, – превратить ее в “произведение искусства”, которое не выкинут». Для самого художника, владеющего идеальным зрением, не нужны никакие насильственные действия по приукрашению вещей – они совершенны в своей самодостаточности. Для зрителя же их ключевые качества нужно вытащить на свет – сначала в произведение, затем – в публичный показ. В случае «Места присутствия» зритель получает возможность оказаться где-то между первым и вторым – примерить на себя опыт видения художника. – О. Д.
«Автономные реплики» Яна Тамковича
ЦТИ «Фабрика», 11 июля – 11 сентября
В пику инфраструктурно-развлекательной бурной деятельности вокруг российского современного искусства последних лет художник Тамкович делает выставку в собственной мастерской, куда попасть можно только по предварительной договоренности (зато с экскурсией от самого автора). В этом эскапизме он близок молодым коллегам, объединенным вокруг пространства Электрозавода (мастерская «Треугольник», галереи «Электрозавод» и Red Square). Тамкович идет дальше и не оставляет места ничему, кроме искусства. Проект становится фактически изучением особого способа общения художников сквозь время и пространство – языка цитат, подмигивания, передачи приветов в вечно прямом эфире. Взяв в пример Пикассо и кубизм, он доказывает, что «в искусстве встречаются художники, которые в жизни встретиться никак не могли». Он выворачивает наизнанку знаковые полотна и личные биографии, обращая то, что мы привыкли видеть двухмерным, в трехмерную доступную среду. Это пространство (вернее, «измерение», как называет его сам художник) собрано из материй столь хрупких, что являют они себя грудой старого барахла, найденного на страницах ebay.com. В своей хрупкости и рассеянности по множеству предметов-знаков этот особый диалог оказывается настолько автономным от публики, галерей и прочих ошметков арт-системы, что оным ему остается только завидовать. И это высказывание звучит как манифест – манифест искусства как поля, чье существование вечно, автономно и независимо, несмотря на характер конкретного места и времени, где оно пребывает. – О. Д.
Подробная экскурсия по выставке в нашем материале
«Astra» Николая Онищенко


«Большие надежды», ЦВЗ «Манеж», Москва, , 24 декабря, 2014 — 18 января, 2015
«Что же происходит?» – этим вопросом задавались зрители возле видеоработы Онищенко. На первый взгляд в ней не происходит ничего, вернее, ничего, что обыденное сознание фиксирует как событие. Видеозапись длится около шести минут и представляет из себя статичный план окраинной новостройки, окруженной небосводом и местной растительностью. Деревья чуть колышутся, движение в самом здании едва заметно, зрение ни за что не может зацепиться, поэтому инерционно игнорируется и звук – хотя именно ему художник как раз уделил особое внимание. К слову, это вторая работа Онищенко, где манипуляция с визуальным материалом минимальна – обработки изображения и монтажа вовсе нет, камера статична (в противоположность старым работам, где, например, в пространство кадра вплывали геометрические фигуры). Сам художник такой отказ от вмешательства объясняет «кризисом языка», а на первый план выходит «состояние, без конкретных привязок к смыслу и нарративу». Работа звучит неуютной паузой в нарастающей какофонии действительных и мнимых событий, подаваемых массмедиа как единственно возможный вариант реальности. Эта пауза становится призывом к замедлению и внимательному всматриванию (и вслушиванию) в обыденный пейзаж, к замечанию незначительных деталей в попытке заново оценить степень доверия этой реальности. – О. Д.
«Внутреннее Дегунино» Павла Отдельнова
MMOMA на Гоголевском бульваре, Москва, 21 октября – 9 ноября 2014
Урбанистические пейзажи, которые рисует Павел Отдельнов, во всех отношениях видены множество раз. Гигантские трубы ТЭС, бетонные эстакады, рекламные щиты и унылые многоэтажки на городских окраинах – житель современного города не просто обитает среди подобных картин. В живописном плане сам предмет, казалось бы, «заезжен» донельзя. Американские прецизионисты Чарльз Демут или Рэльстон Кроуфорд и наши современники Гюнтер Пуш и Кристина Бергольо, фабричные цеха Пименова и Дейнеки и московская подземка Андрея Волкова – цементированные улицы, заводские организмы и бетонные «коробки» зданий притягивали художников всегда и продолжают делать это по сей день.
Восприятие индустриальной фактуры, однако, для современного человека изменилось кардинально. И не только потому, что область ручного – материального – труда поблекла на фоне нематериального производства, а ее атрибуты превращаются в нечто из разряда экзотики. Футурологический «жизнестроительный» пафос индустриализации начала века, на какое-то время сменившийся экзистенциальной хандрой послевоенного сознания, кругом видящего бетон, уступил место холодному равнодушию к реальности мегаполиса, унифицированной в любой точке мира.
Можно сказать, что живопись Павла Отдельнова произрастает из этого самого духа времени, в котором индустриальная (и урбанистическая) тематика буквально обречена оставаться современной. За счет исторического шлейфа, который тянется за ней со времен авангарда, музейного и художественного очуждения, которому подвергаются – и к которому активно взывают – прежние и нынешние архитектурные и инженерные конструкции.
Примечательно, что сам художник – великолепно чувствующий и хорошо знающий живописную материю разных эпох – не просто «набирает бонусы» за счет верно уловленного zeitgeist, но лавирует между различными уровнями живописного письма. Обособляет отдельные планы, делает фигуративное почти что абстрактным или прибегает к скрытым цитатам.
Артикулируя собственный метод, Отдельнов не впадает в излишнюю концептуальную изощренность и философию, но прекрасно отдает себе отчет в «началах и истоках» и ясно очерчивает профессиональное поле с возможными ответвлениями, притоками, развилками. Его работы, пожалуй, – один из оптимальных способов существования живописи сегодня. Многомерная проработка художественного «вещества существования» с позиций приговской «культурной вменяемости». – В. Л.
О выставке в ММОМА читайте в нашем материале
«Шурфы» Софьи Гавриловой


ЦВЗ «Манеж», Москва, «Воображаемые территории», 22 апреля — 18 мая 2014
Инсталляция Софьи Гавриловой представляет собой идеально сфокусированные и сочные в цветовом отношении цифровые снимки природных ландшафтов, сделанные художницей во время географических экспедиций по стране. Экспонированные на световых экранах в темном помещении кадры при этом не статичны, но медленно «пульсируют», как будто слегка надуваясь и оседая.
Эту «странность» в невинных вроде бы фотографиях зритель замечает не сразу – быть может, не видит ее вовсе. «Шурфы» тем не менее заставляют слегка насторожиться – хотя бы из подозрения к самому факту экспонирования столь банальных ландшафтных снимков. Действие инсталляции базируется на подспудном ощущении тревоги, которое провоцирует зрителя не покупаться на видимость, но смотреть за пределы кадра, попытавшись увидеть его истинное значение. Сама видимость при этом представляет определенную проблему: «пульсирующие» изображения кажутся неустойчивыми и готовыми в любой момент взорваться, обнаружив за поверхностью картинки зияющий провал. На «провал» намекает само название работы: «шурф» – геологический термин, обозначающий искусственные углубления, сделанные в земле для разведки полезных ископаемых.
«Шурфы» Гавриловой сняты по всем стандартам хорошего цифрового изображения и на первый взгляд не должны вызывать подозрения. Художница при этом обращает внимание на нечто «ненормальное» и подозрительное, что таится в привычном порядке вещей. Том «усыпляющем» порядке, который сложился на основе «дружественных» и хорошо знакомых культурных кодов и должен скорее «умиротворять», нежели провоцировать сомнения в его истинности.Укалывающий» бартовский punctum или описанный Розалиндой Краусс семантический пробел, превращающий снимок в целостную последовательность знаков и взывающий к интерпретации. Или критической рефлексии действительности, которой никогда не бывает много. – В. Л.
«Я хочу бояться леса» Ивана Новикова
«Вечно живой труп», Цех Красного, ЦСИ «Винзавод», 29 ноября – 13 декабря
Выставку про живой труп студентов института «Базы» на Винзаводе открывала большая 6-метровая в длине работа Ивана Новикова. Четыре бледных холста с темперными отмывками «прорастали» сухостоем. Крестообразно. Впечатляло в качестве распятия агонизирующего медиума живописи, флага борьбы с фигуративностью или оригинального украшения интерьера, рифмующего «картину» с «икебаной». Выпускник суриковки, Иван Новиков смотрит на живописный холст как природную, растительную, льняную материю. Такое возвращение к истокам, продиктованное желанием «смотреть не на природу, а из нее», приводит к, казалось бы, проращиванию листьев и веток из холста (как будто Буратино зацвел), но по факту оказывается конопаткой щелей старой доброй живописи, продиктованной одержимостью вернуть самому себе забытый страх природы. – Анна Быкова
«Проявление» Владимира Потапова
- Выставка «Проявление» Владимира Потапова в Random Gallery, Москва. 2014 // Фото: Ольга Данилкина
Галерея Random, 7 — 21 февраля 2014
Выставка «Проявление» Владимира Потапова под кураторством Александра Евангели — трехчастный реквием, посвященный трагическим событиям последнего времени и, главным образом, взрывам на Родине художника — в Волгограде. Хронология печальных явлений пробуждает мифологические пласты сознания, которое рисует неявные причинно-следственные связи и рождает чувство необратимости. Так, августовский мор птиц, представленный в виде инсталляции в первой комнате галереи Random (мертвые птицы, выложены белым пигментом на совках) обретает значение знамения будущих бед. Ощущение предопределенности Потапов смог передать с помощью техники «бесконтактной» живописи: рисунки на стекле, воспроизводящие известные кадры событий на Украине, в Египте, Греции, России, сначала были засыпаны пигментом, а потом закреплены прозрачной смолой. Эффект «проявления» живописного изображения становится символом процесса «проявки» события во времени: от реального, но еще не существующего, до случившегося и меняющего видимую реальность, которая на выставке приняла вид груды битого стекла в последней комнате.
Концептуальная редукция живописи до формального наложения краски на поверхность при сохранении образов, но исключении принципа рукотворности изображения, предоставляет медиуму возможность говорить от собственного лица. И говорит он исключительно о своей способности делать скрытое видимым, вместе с тем признаваясь в полной беспомощности перед формами реальности, которые она вольна принимать.Такое изящное создание условий для капитуляции иллюзий выталкивает нас из картины в реальность и позволяет назвать работу Владимира Потапова самой интересной попыткой реабилитации живописи в минувшем году. — Анна Комиссарова
Интервью с художником читайте по ссылке
Перформанс «Родина-мать» Лизы Морозовой
МСИ «Гараж», Do It Moscow, 30 апреля 2014
С перформансом Лизы Морозовой связаны два важных обстоятельства. Во-первых, он был единственной «самостоятельной» работой в рамках выставки Do It Moscow в «Гараже» (в рамках этого проекта, напомним, художники выставили не работы, но инструкции, воплотить которые должен был кто-то другой). Во-вторых, это откровенно антивоенная работа была показана 30 апреля 2014 года, когда паровоз политического конфликта вокруг присоединения к России Крыма и пресловутой «федерализации» Донбасса несся на полных парах. В России это была едва ли не первая реакция на события – по крайней мере на крупной институциональной площадке в Москве.
В рамках своего перформанса полностью обнаженная художница с залепленными непрозрачным скотчем глазами на ощупь перемещалась по залу, а к ее голове был примотан игрушечный танк с системой дистанционного управления. Любой желающий мог из него «пострелять», взяв руки пульт. Периодически Морозова пыталась разбить свою «ношу» о пол или стену.
Сетевое – да и реальное жизненное пространство большинства людей к тому моменту трещало от обилия антимилитаристских высказываний. Работу Морозовой, однако, не стоит считывать в оптике доморощенного пацифизма или выкриков на тему «ужасов войны». Перформанс «Родина-мать» в большей степени повествует об «ответственности мысли». Последняя, как известно, материальна, и радиус ее поражения оказывается намного шире, а эффект – разрушительнее, чем можно было бы представить. Выстрелы игрушечного танка ощутимо резонировали в голове художницы. Вращение пушки в разные стороны нарушало равновесие тела и ориентацию в пространстве.
В перформансе Лизы Морозовой было много «говорящих» деталей. Пульт от «войнушки», свободно передаваемый из рук в руки ради забавы. Выстрелы с «места дислокации» художницы, которые она не совершала, но которые не состоянии контролировать. Хрупкий пластмассовый танчик, который так и не удалось разбить. Публика, смущенно расступающаяся в стороны в ответ на желание художницы взаимодействовать с ней, вытянув вперед руки. – В. Л.
Интервью с художницей читайте по ссылке
«Синдром заученной беспомощности» Гайши Мадановой
Музей Москвы, в рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства, 26 июня – 10 августа 2014
Работа молодой художницы из Казахстана Гайши Мадановой была показана на Биеннале молодого искусства в Музее Москвы и попала в болевую точку поколения. На большой международной биеннале, где было больше сотни работ, эти бледные шелкографии в простых деревянных рамках затерялись, хотя Маданова точно нашла прием для отражения беспомощности, слабости и апатии. Эти картинки – из советской оптимистической брошюры «Сила растяжки», на нежных двухцветных страницах которой подтянутые девушки и парни в шортиках рассказывали, как стать быстрее, выше и сильнее. Маданова масштабировала эти изображения, увидев в них противоположный смысл, выученную беспомощность. Шелкография в сочетании с пастельными тонами подчеркивает инфантильность и слабость, а отсылки к брошюре – недавнее советское прошлое. Тиражность тоже не зря: эти красивые картинки могли бы висеть на стене у какого-нибудь хипстера, могли появится и в фильме Гранильщикова. Маданова не ставит диагноз, она лишь облекает в точную форму то, что и так всем известно и растиражированно, о чем написана не одна статья, получившая сотни шэров в «Фэйсбуке». – Е. И.
«Социализм во сне» Антонины Баевер
Парк искусств «Музеон», 31 июля 2014
Фильм Антонины Баевер – рассказ о трех ее сновидениях, фабула которых вращается вокруг ситуаций социального неравенства, увиденных (или предполагаемых) художницей в реальной жизни. В каждом из снов присутствует определенный конфликт, который призван заострить позицию говорящего как субъекта социальной борьбы, но каждый раз заканчивается безрезультатно. Спящая просыпается, слушает музыку, отправляется на подготовку очередной выставки или важную встречу.
Современное искусство сегодня, кажется, просто обязано быть ангажированным. Даже самая «формалистская», на первый взгляд, работа должна читаться политически или отсылать к социальным проблемам. Подобное положение дел едва ли обесценивает левые дискурсивные практики как таковые (проблема конъюнктуры и траченности карьеризмом, безусловно, имеет место, но идеям Джеймисона, Бюргера или Иглтона в искусстве едва ли что-либо угрожает), но подтверждает гройсовский тезис о «кризисе бесполезности», который зачастую желают преодолеть художники, стремясь создать нечто социально значимое и функциональное.
«Социализм во сне» – не призыв к классовой борьбе или желание революционно включиться в противоречивую турбулентную действительность. Баевер осознает дистанцию по отношению к той реальности, против которой «сновидно» восстает, а также собственные отличия от персонажей ее снов. Но все то, что с ними происходит, как и стоящую за всем этим реальность, становится все сложнее не замечать, хотя бы просто по-человечески.
Высказывание Баевер – позиция разумного сомнения. Смутное прозрение – в духе Ханны Арендт – о том, что один раз проигнорировав зло, ты быстро забываешь, что произошло зло. Дьявол – в деталях на расстоянии вытянутой руки. И опрометчиво решив, что определенные события вокруг не касаются тебя самого, на следующий день по пробуждении обнаруживаешь себя в эпицентре социального конфликта. Или в числе его непосредственных жертв. – В. Л.
«Спартак. Times New Roman» Хаима Сокола
ЦТИ «Фабрика», 22 октября – 24 ноября
Проект Хаима Сокола «Спартак. Times New Toman» стал очередной вехой мигрантского цикла. Сокол едва ли не единственный художник, последовательно исследующий эту тему, и уже за это выставку в ЦТИ «Фабрика» можно назвать одним из важнейших проектов 2014-го. Хаим действует в привычной для себя эстетике лопат и тряпья, но выводит ее в новое измерение утопического. Эти ржавые железяки, матрасы и тачки, раньше представлявшие собой знак угнетения, превращаются в символ восстания. Обычная тряпка становится знаменем, лопата – орудием борьбы, на подушке – Ленин, по телевизору в гастарбайтерской пристройке – «Первый учитель» Кончаловского. Над этим революционным хламом возвышается Венера мигрантская – абсолютно нереальный, утопический символ. Знаки и документы мигрантского быта приобретают амбивалентность. Также и в фильме «Спартак», в котором мигранты играют восставших римских рабов. Только знак угнетения может обернуться знаком революции.
Фильм особенно важен и интересен потому, что является по сути документальным. Хаим снимает не постановку легендарного исторического сюжета в декорациях современности, он снимает саму реакцию мигрантов на этот сюжет: нежелание кричать «Свободу!», постепенное воодушевление, радость волеизлияния, когда мигранты пишут на своеобразной арке Тита во дворе «Фабрики». Художник задействует игровые практики, обнаруживая в них потенциал свободы. Получается простая и очень важная формула: свободу можно найти в утопии, а утопию – в окружающем вещном мире. – Е. И.
Интервью с художником читайте по ссылке
«Кино к романтику» Дины Караман
ЦВЗ «Манеж», 22 февраля — 16 марта
Проект молодой художницы Дины Караман, работающей с языком видеоарта и кино – прекрасный пример того, как «сделать выставку политически» прямо под носом у Кремля. И дело, конечно, не в выразительной истории с заклеиванием первоначальной версии текста куратора выставки Романа Минаева, где фигурировала лексика, обличающая «Единую Россию» с ее «биополитическим проектом» и Путина с его «авторитарным строем». Дина не просто деконструирует и без того очевидный процесс идеологического зомбирования детей в муниципальной библиотеке, в соответствии с генеральной линией партии у власти, направленной на воспитание идеального представителя общества потребления с традиционалистским уклоном. Она обращается к культурно-исторической памяти. Она исследует ту самую «серую зону», от которой так отвыкло современное искусство, ориентированное на декларацию и провокацию. Прибегая к непопулярной, наивной и пошлой концепции романтизма, Караман демонстрирует абсолютную свободу своего эстетического и интеллектуального поиска. Затасканная оппозиция «художник – власть», вопросы политического и аполитичного в искусстве у нее получаются свежими и искренними. Обращение к «Алым парусам» Грина, роль беспристрастного архивариуса отношений писателя с советской утопией и финальный аккорд в виде гротескно-романтического видео с луной утверждают эмансипацию художника от застывших художественных стратегий, что делает искусство по-настоящему революционным. – Наталия Протасеня
«Зелень внешняя» Лаборатории городской фауны
- Лаборатория городской фауны, ДНК, 2014
Павильон «Зерно», ВДНХ, 4 сентября – 31 октября 2014
Лаборатория городской фауны – проект Алексея Булдакова и Анастасии Потемкиной (в прошлом также Дмитрия Потемкина), в рамках которого художники последовательно имитируют формат исследовательской институции. Сначала предлагали зрителям любоваться городскими животными вроде голубей и крыс, потом – занялись растениями. Нынешняя выставка была сооружена в павильоне «Зерно» на ВДНХ, где в советское время бытовали достижения сельского хозяйства и где Лаборатория городской фауны представила их антипод – всевозможные виды сорняков, некультурные культуры, прорастающие сквозь выхолощенный городской ландшафт и остающиеся за пределами новой городской политики брусчатых тротуаров, облагороженных набережных и аккуратных газонов. Тщательно собирая растения-паразиты в местах, лишенных внимания (возле строительных заборов, на пустотах и бесхозных территориях), снабжая подписями на латинском, Лаборатория городской фауны выводит модную нынче урбанистику на уровень панка. В этих лишних и угнетаемых, но упорно и без надобности растущих культурах, художники видят революционный потенциал – так же, как Хаим Сокол видит его в самых неприглядных предметах быта. Сокол примеряет культуру с мигрантским бытом, Лаборатория городской фауны – с природой (похожим образом действовал и Илья Долгов в проекте «Азой»), сохраняя при этом иронию. Сорняки были показаны с империалистическим размахом (пространство тоже диктует свои правила), над всей экспозицией возвышались одинокий серп, будто взятый из руки Колхозницы, и напоминающая ДНК спираль из типичной желто-зеленой оградки, вокруг экспозиции тянулся железный забор, а на вернисаже наливали свежевыжатый сок из яблока и петрушки, тут же перерабатывая органические отходы в компостере. Ярко, весело, свежо, насыщено контекстами – сочетания всех этих качеств так часто не хватает современному искусству. – Е. И.
«Орфография сохранена» Павла Арсеньева
Первый кадетский корпус, Санкт-Петербург, Manifesta 10, Generation СТАРТ, 28 июня – 31 октября
Инсталляция Арсеньева, расположившись в зеленом дворе Кадетского корпуса, заняла козырное центральное место всей выставки и прозвучала так, как не смогла ни на одном из предыдущих показов (а она, в отличие от работ ряда коллег-СТАРТовчан, не новая – это повтор 2012 года). В Первый кадетский корпус – опустевшее здание, потерявшее свое историческое назначение – современное искусство пустили «пожить» временно, перед тотальной реконструкцией в некий учебно-научный комплекс при СПбГУ. Гулкие коридоры, облупившаяся штукатурка, минимальное количество посетителей – как ни странно, именно здесь современное искусство почувствовало себя уютно, в никому не нужном месте никому не нужное искусство. Чего не сказать об основном проекте «Манифесты» – второй его части, размещенной в залах основной экспозиции Эрмитажа, где это искусство непременно кому-то нужно. Зачем-то и почему-то – в окружении избыточных кремовых тортов царского интерьера – от него ждут выполнения требований по обывательскому списку. Две предельно разные, но очень звучные фактуры двух пространств точно передали картину дня: инерционные ожидания публики заключаются в избыточной материальности и тонком мастерстве, в то время как современное искусство исследует мир, который по большей части пугающе не-вещественен. Стать вещью для такого искусства – компромиссная формальность, вынужденная необходимость оперировать тем, что есть, регулярно проставляя сноски и ссылки. Инсталляция Арсеньева оказывается буквальной иллюстрацией этого состояния – буквы и слова, повисшие в воздухе (первые – буквально) на фоне буйной летней зелени покинутого пространства, пытаются быть вещью и одновременно говорить о том, что едва ли ими (вещами и словами) выразимо. – О. Д.
«Обнаженная» Давида Тер-Оганьяна


«Не Музей. *Лаборатория эстетических подозрений», Арт-пространство «Новая индустрия», Mаnifesta 10, СПб, 28 июня – 31 октября
Сакраментальная тема истории искусства вдруг получила «свежее решение». Обнаженная радикального художника Давида Тер-Оганьяна состоит из предметов девушкиного гардероба простых и ярких цветов: красное платье, красные конверсы, желтое белье, синие колготки так и наводят на вопрос – где балаклава? Радикальные московские художники сделали абстракционизм своей эстетической платформой – вот и цветные пятна небрежно брошенной женской одежды повторяют линии дигитальной графики, которую Тер-Оганьян-младший создает на айпаде и переводит в световые инсталляции и масштабные холсты. «Обнаженная» Тер-Оганьяна становится очередной «Венерой тряпичной» (Микеланджело Пистолетто, 1967), прячущей свои формы. – А. Б.
Подробнее о выставке читайте в нашем материале
«Молитва» Кирилла Хрусталева

«Сигнал – Искусство настоящего», КБ «Сигнал», 26 – 29 июня
Работы Кирилла Хрусталева описываются как редкий случай петербургского концептуализма или очередная подборка «русского бедного» искусства. Его арт-объекты-анекдоты, составленные из спичечных коробков, прищепок, кукольных голов, рук и ног, обычно остроумны и смешны (в 2013-м его выставка «Ближние» проходила в Pechersky gallery). Сложенные из кирпичей-блоков мини-скульптуры – «Молитва», «Птица-скорбь», «Родителям, потерявшим ребенка» – открывают метафизическое измерение и надрывную тоску хрусталевских объектов. «Молитва» – маленький домик, крыша которого повторяет сложенные ладони рук, – стояла в центре комнаты заброшенного конструкторского бюро, где Петр Белый устроил выставку «Сигнал – Искусство настоящего». Весь этот выставочный проект должен был стать смотром петербургского совриска, не взятого на большую эрмитажевскую «Манифесту». И здесь старый паркет «елочкой» неожиданно и стократно усиливал молитвенный призыв художника Кирилла Хрусталева, устроившего портативную часовню посреди руинированного советского промышленного комплекса. – А. Б.
«Спа-театр старения» группы МишМаш
XL Gallery, Москва, 30 октября — 20 ноября
«Спа-театр старения», пожалуй, самое мощное и беспощадное высказывание года об абсурде и времени. Проект «основан на реальных событиях» и представляет собой большие свитки, напоминающие ленту новостей в facebook, с прямой и ежедневной документацией всего того, что происходило в телах, сознаниях и душах художников, а также в стране и мире за год. Отсутствие взаимосвязей между фактами лишает их значимости, превращая в один большой абсурдный и нечитаемый текст. Его масштаб обескураживает зрителя.
Весь мир — разрозненный контент, а люди — его биологические генераторы и агрегаторы одновременно. От театра остается только эффектная форма представления, в которой контент нуждается, чтобы быть потребленным наряду с поп-корном. Сочетание инсталляции и перфоманса создает тотальную среду спектакля, в котором при наличии зрителей и времени, действие реализуется через его отсутствие. – А. К.
Рецензию на выставку читайте по ссылке
«Обеденный стол» Семена Мотолянца


Галерея «Борей», Санкт-Петербург, Cementa, 19 ноября – 6 декабря 2014
«Любое живое движение превращается в сраный капитализм» – послание Семена Мотолянца, «зацементированное» поверх обеденного стола с чашками, сахарком, ложками и шоколадом, прозвучало на выставке «Цемента». Традиционная техника, явная отсылка к соцреализму, раздраженное высказывание, общая направленность выставки на цементирование фундамента для последующих поколений и на истребление косности взглядов и мыслей – когда «капитализм» стал ругательством? Почему то, что продается и покупается, должно быть плохим? Постсоветское пространство, в условиях которого мы живем и выживаем, и наше постсоветское сознание придавлены ползущим советским асфальтоукладчиком, парализованы любые живые движения нашей мысли – мы существуем в обстоятельствах полярных, противостоящих друг другу категорий: хорошо-плохо, патриот-иностранный агент, свой-чужой мораль-деньги. Художник, оказываясь заодно с кем-то одним, в лице других находит целый лагерь противников. Отшельник вызывает недоумение, востребованный – раздражение. Что бы мы ни делали, все всегда будет плохо. – Л. М.
«Администрация» Олега Устинова
Музей Москвы, в рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства, 26 июня – 10 августа 2014
Олег Устинов любит похулиганить в государственном масштабе. В проекте «Администрация» он снова берется за прием провокации, аффирмации «от обратного» – и доводит его до апогея, исследуя проблемы репрессивной политики государства и медиатизации общества. Работа в актуальном поле гендера и гражданского активизма могла бы сделать Устинова классическим левым художником, если бы не его игра в перевертыши, от которой достается всем – и хорошим, и плохим. В «Администрации» он поднимает вопросы, актуальные для обычного, «нормального» человека, живущего в закоснелой парадигме мелко-буржуазных ценностей «уважаемых жильцов», для которых необходим свой, особый медиум – листок бумаги с объявлением, написанным канцелярским языком сотрудников районного ЖЭКа. Его подрывной партизанинг напоминает невинные детские розыгрыши, где острота проблематики идет дальше локальных явлений конкретной среды и времени, в данном случае – Ростова-на-Дону, своего рода города N, символа российской периферии, богатого материала для исследования местечковой психологии. Устинов делает вброс и наблюдает, как медиа-рябь постепенно расходится, подобно кругам на воде, становясь полноценной частью проекта и приобретая новые, порой противоположные изначальному замыслу коннотации. В итоге «Администрация» оказывается тщательно спланированным исследованием слабых мест системы и микро-травм отдельного человека как ее части. – Н. П.
«Московское утро» Эрика Булатова
ЦВЗ «Манеж», «ЖИВУ – ВИЖУ», 9 сентября — 8 октября 2014


Интервью с художником читайте по ссылке
«Низший слой» Александра Плюснина
Музей Москвы, «Живопись расширения», 15 марта — 5 апреля


Рецензия на выставку «Живопись расширения» по ссылке
Restricted areas Данилы Ткаченко
«Ударник», «Я видел молнию», 5 июня — 15 июня
«Штудия раны Христа #2» Алисы Йоффе
Stella Art Foundation, «Полупроводники», 4 июля – 15 августа


«Атлас» Кирилла Савченкова
Stella Art Foundation, «Полупроводники», 4 июля – 15 августа


«Заговор» Сергея Браткова
Галерея Риджина, 27 мая – 28 июня 2014
«Муть» группы «Синий суп»
Галерея XL, 4 – 27 марта
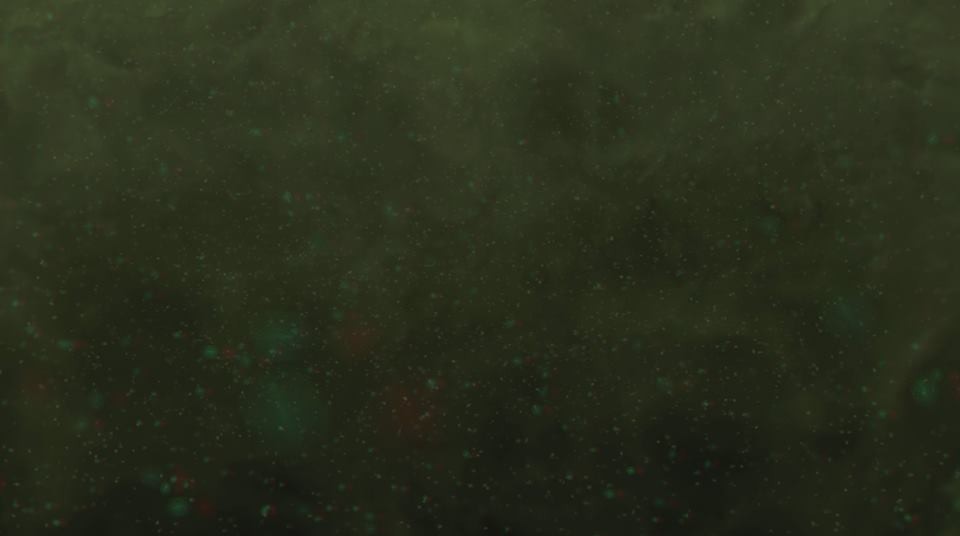
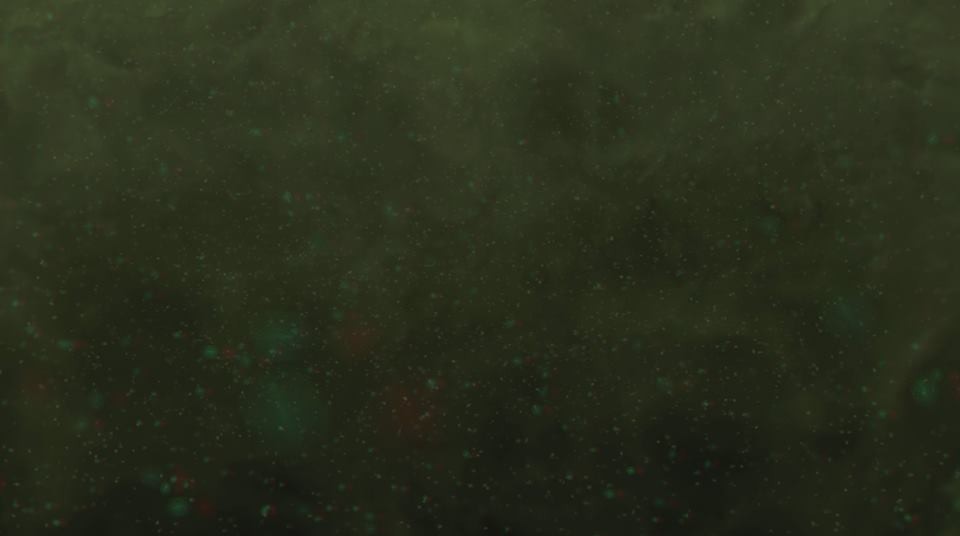
Рецензию на выставку читайте по ссылке
«Час волка» Александра Морозова
Музей Москвы, «Другая столица», 14 октября – 14 ноября


«Аметропии» Кирилла Гаршина
ВЗ РОСИЗО, «Внутри грудной клетки», 29 сентября – 4 ноября
Рецензию на выставку читайте по ссылке
Из проекта «Русский Адидас» Игоря Старкова
MMOMA на Тверском бульваре, «Русский Адидас», 1 июля – 24 августа


Рецензию на выставку читайте по ссылке
«Аврора» группировки ЗИП
Галерея XL, «Утопический скелет», 10 – 30 апреля


Рецензию на выставку читайте по ссылке
«Федерация» Елены Губановой и Ивана Говоркова
КБ «Сигнал», «Сигнал 2014», Санкт-Петербург, 23 — 25 мая 2014


Подробный фотоотчет выставки смотрите по ссылке
«Бунт комнатных растений» Петра Белого
КБ «Сигнал», «Сигнал 2014», Санкт-Петербург, 23 — 25 мая 2014


«Пустой дом» Артема Филатова и Владимира Чернышева
Музей Москвы, в рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства, 26 июня – 10 августа 2014


«Матка» и «Прямая кишка» Дениса Строева
«Вечно живой труп», Цех Красного, ЦСИ «Винзавод», 29 ноября – 13 декабря

Fall группы уличных художников Zuk Club
Музей архитектуры, «СтритАРХ», 5 сентбря – 8 октября


«Афинская школа» Романа Сакина
Pechersky Gallery, 13 ноября – 11 января 2015


Рецензию на выставку читайте по ссылке
«Шесть букв. Первая – Л» Екатерины Юшкевич


О Екатерине Юшкевич и других петербургских фотогрофах читайте по ссылке
«Карта поэтических действий» (куратор Павел Арсеньев)
Санкт-Петербург, в рамках Манифесты-10
«Piece of resistance — Не мой диалог о революции» Ганны Зубковой и Екатерины Васильевой
Галерея «Электрозавод», 12 – 18 ноября


Рецензию на проект читайте по ссылке
Материал подготовили: Анна Быкова, Ольга Данилкина, Елена Ищенко, Анна Комиссарова, Валерий Леденев, Лизавета Матвеева, Наталия Протасеня.
Фото: Ольга Данилкина, Татьяна Доспехова, Ирина Иванникова, Александр Лаврентьев, Валерий Леденев, Павел Отдельнов, Михаил Григорьев, Сергей Гуськов, а также предоставлены авторами, галереями «Электрозавод», «Триумф», Anna Nova, Pop/off/art, Regina, XL, фондами V-A-C и Stella, МСИ «Гараж», пресс-службой Manifesta-10
Превью материала на главной странице: Алесандра Сухарева «Это есть, тебя нет»// Фото: Александр Лаврентьев
Новости


You need to log in to vote
The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.
Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.






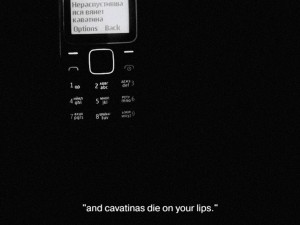

















































































































































































[…] […]
[…] выставок, важных встреч и проектов. Через галерею – зеленая стройсетка Наташи Тимофеевой, рядом – площадная плитка с только что закрывшейся […]
[…] aroundart.ru включил работу Кати Юшкевич «Шесть букв. Первая Л» в […]
[…] в два раза сократив количество работ – их 25 против прошлогодних 50. Мы считаем, что напряжение времени отразилось в том, […]
[…] в два раза сократив количество работ – их 25 против прошлогодних 50. Мы считаем, что напряжение времени отразилось […]